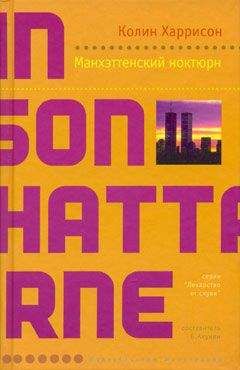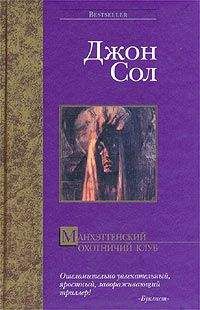Колин Харрисон
Манхэттенский ноктюрн
Ночь – это коридор истории, но не знаменитых личностей или великих событий, а истории всех, оказавшихся на краю жизненной пропасти, отвергнутых, угнетенных, непризнанных; истории порока, ошибок, путаницы, страха, нужды; истории отравлений, тщеславия, обмана, иллюзий, разгула, беспамятства и бреда. Она сдирает с города налет показного прогресса, современности и цивилизации и обнажает всю дикость его девственной природы. Ту самую окультуренную дикость Нью-Йорка, которая вобрала в себя преступления прошедших ночей. Ночь не иллюзия, это день – химера, и в его свете Нью-Йорк разыгрывает из себя город с домам, немножко повыше, чем везде, а в будни – с людьми, утром спешащими на работу, а потом домой – спать; огромную машину, энергично рокочущую на благо общества. Ночь откровенна – она показывает, что все это пантомима. Ночью на улицы выходит все, что пряталось днем; каждый подпадает под действие закона случайностей, каждый становится потенциальным убийцей и жертвой, каждый чего-то боится, а всякий, кто объят страхом, может внушить его другим. Ночью все обнажены.
Люк Сант. «За бортом жизни»* * *
Я продаю драки, скандалы, убийства и вообще все, что имеет роковой конец. Ей-богу, это так. Я продаю трагедию, возмездие, хаос и судьбу. Я продаю страдания бедных и тщеславие богатых. Детей, выпадающих из окон, вагоны подземки, охваченные огнем, насильников, убегающих во тьму. Я продаю ярость и спасение. Я продаю мускулистый героизм пожарных и сопящую ненасытность мафиозных боссов. Зловоние отбросов и звон золота. Я продаю черное белому и белое черному. Демократам и республиканцам, борцам за свободу личности и мусульманам, трансвеститам и скваттерам в Нижнем Ист-Сайде. Я продавал Джона Готти и О.Дж. Симпсона, а еще тех, кто взрывал Всемирный торговый центр. И буду продавать всякого, кто явится в следующий раз. Я продаю ложь и то, что сходит за правду, а равно и все, что умещается в промежутке. Я продаю новорожденных младенцев и покойников. Я продаю бесстыдный, потрясающий город Нью-Йорк его жителям. Я продаю газеты.
Большинство читает меня за завтраком, меня просматривают биржевые маклеры, едущие в поезде из Нью-Джерси, итальянские докеры-пенсионеры, сидя на ступеньках своего дома в Бруклине с потухшей сигарой в зубах, а еще сиделки в автобусах по дороге из Гарлема в госпиталь в Ленокс-Хилле. Читают меня и ребята с телевидения, которые, бывает, и стянут что-нибудь интересное. А еще пакистанец, сидящий в своем авто неподалеку от Мэдисон-Сквер-Гарден, который, свихнувшись на стремлении раскусить Америку, читает все подряд. И молодые адвокаты, во время ланча предварительно отметив галочкой объявления, зазывающие в стриптиз-клубы. А также консьержи в многоэтажных жилых домах в Ист-Сайде, отрывающиеся от чтения, чтобы мельком взглянуть на деловых дам, каждое утро уносящихся навстречу будущим сделкам. Ну и, конечно, копы – вот эти, точно, прочитывают меня от корки до корки, высматривая, не приврал ли я где ненароком.
Моя колонка появляется три раза в неделю, как правило, с завлекаловкой на первой странице вроде: «Ее погубила любовь» – Портер Рен, с. 5; или: «Портер Рен берет интервью у матери убийцы» – с. 5; «Окоченевшего младенца воскресить не удалось» – Портер Рен, с. 5». Работенка что надо, одно удовольствие. А еще разные счастливчики, с которыми общаешься по долгу службы. Я беседую с детективами и родственниками жертвы, с неохотно отвечающими свидетелями и всеми, кто случайно оказался поблизости от места происшествия. И я прошу их рассказать о том, что они видели, или слышали, или что об этом думают. В середине моей колонки – врезка с моим именем и старой фотографией, где я, чисто выбритый, преисполненный показной самоуверенности, в костюме и галстуке, скривился в улыбке, иронически подняв левую бровь. В общем, выгляжу как полный идиот. Старший редактор выбрал это фото, потому что там изображен «обычный парень». Так оно и есть. Обычная стрижка, лицо, галстук, ботинки. Обычные потребности, хотя именно эти потребности всегда доводили меня до беды. А вот жизнь у меня отнюдь не обычная: я вскакиваю по ночам к телефону, потом впотьмах одеваюсь, покидаю спящую жену и детей и отправляюсь туда, где что-то произошло, а это может оказаться: автомобиль, бар, улица, клуб, магазин, квартира, прихожая, парк, тоннель, мост, гастроном, угол, пристань, варьете со стриптизом, плоская крыша, аллея, переулок в трущобах, контора, подвал, парикмахерская, комнатка для неофициальных ставок на скачках, массажный кабинет, психушка, школа, церковь. Там я пристально всматриваюсь в вялые лица мужчин, женщин и детей, которые, может, и знают что-то, а может, и нет. И все время, пока я, вернувшись домой, целую детей, повисших у меня на руках, и желаю им доброго утра, меня мучит мысль о том, что уход одного человека из жизни я превращу в развлечение для кого-то другого. И выходит, что моя идиотская фотография обещает буквально следующее: «А я тут припас для вас еще кое-что потрясное. Прочтите, не пожалеете».
Тем не менее я не рассказываю в моей колонке. Если, к примеру, информация сомнительна, или ее маловато, или одна из газет, а возможно, ТВ-станций, получила ее раньше меня. Или она наводит скуку. Или устарела. Или, если услышу: Хромайте отсюда, мистер Репортер. Еще раз явитесь, вышибу вам мозги!» Или сведения касаются кого-то из моих друзей. Или у кого-то есть знакомства в руководстве мэрии или в полицейском управлении: «Эй, как тебя, Рен, послушай, тут такое дело: я слышал, тот малый рассказал тебе что-то, какую-то историю, так он просто сбрехнул». Или все так запутано, что ничего не выкинешь и не впихнешь в тридцатидюймовую колонку. Читателям газет нужны горяченькие новости и сплетни о знаменитостях из раздела светской хроники, а потом по порядку: спортивный раздел, объявления о продаже автомобилей и биржевая страница. У них нет времени копаться вместе со мной в человеческой душе, скрупулезно отделяя один мотив от другого. Им требуется пузырек дешевых чернил и дешевая сенсация, и они это и получают.
Есть, разумеется, и еще кое-какие вещи, которые я никогда не доверю бумаге: это все, что касается лично меня. То есть я хочу сказать, действительно касается. Мои читатели очень удивились бы, ведь для них я не больше, чем мнение о чем-то, отношение к чему-то. Некто, задающий вопросы, лицо с фотографии с раз и навсегда застывшим выражением: безмятежная маска всезнайства и уверенности в себе, ничего общего не имеющая с лицом, которое вытягивается от удивления, застывает от страсти, тает от удовольствия, выражает то бешенство, то отчаяние и напоследок – неизменно искажается состраданием.
С чего начинается любая печальная история? Когда вы ничего такого не ждете, смотрите в другую сторону, думаете о других проблемах, обычных проблемах. В это время, в прошлом январе, в городе, забитом грязными сугробами, снегоуборочные машины, ворча и охая, тащились по уличной слякоти; люди покупали билеты в Пуэрто-Рико, на Бермуды – куда угодно, лишь бы избавиться от холода, засевшего в костях, и тягомотины манхэттенской жизни. Был понедельник, а значит, на мне висел обзор в завтрашней утренней газете. Так что, хочешь не хочешь, а надо было собраться и выдать что-нибудь вроде того, как один из защитников «Никсов» промазал с девяти метров. Я, как обычно, уже до одури навыдувал немыслимое количество пузырей из жвачки и вылакал литр кока-колы, стараясь не замечать боли в руках, измученных многолетним печатанием на машинке. И все-то приходится выставляться в этой игре, поддерживать знакомства со знаменитостями, стараться обскакать ребят с ТВ, делать вид, что в тебе есть то, чего нет в обычных репортерах, поскольку многие из них мечтают о своей колонке, которая, по их мнению, будет лучше твоей! (Моя точно была лучше, когда я только начинал.) Ребятам, вроде Джимми Бреслина (он уже завоевал прочное положение), не о чем беспокоиться. А я вообще нервный, волнуюсь из-за всего и ничего не принимаю на веру. В свои тридцать восемь я достаточно стар, чтобы добиться славы, и достаточно молод, чтобы заниматься пустяками. Мое правило в жизни, да и в работе: стараться не напортачить. Мировой принцип, и я, как мне кажется, от него не отступаю.
Все, о чем я хотел здесь рассказать, началось немного позже, вечером того же дня, мне ничего не стоило бы избрать отправной точкой моего рассказа роскошный светский раут, где много смокингов и наручных часов за десять тысяч долларов, где элегантно одетые личности с удовольствием обсуждают недавнее бормотание председателя Федерального резервного банка или внутреннюю политику в отделе хроники Эй-би-си. Однако подобные сборища не слишком похожи на обычно посещаемые мною места. Ведь я большей частью тружусь в самых мрачных кварталах Нью-Йорка, где царит беспредел уныния и буйства, убожества и насилия. Там, где работяги, разворачивая счета за электроэнергию, долго палятся на них с глухим отчаянием, где форму для ученика приходской школы покупают с большими надеждами. Где время прибавляет болезненных ран и шрамов на детских телах, где игрушечные пистолеты в руках ребятишек выглядят как настоящие, а настоящие разукрашены, как игрушки. Где у людей есть энергия, но нет перспектив, есть амбиции, но нет возможностей их удовлетворить. Они бедны и страшно от этого страдают. Вот с них-то я и начну, чтобы уточнить, где я начал тот памятный день, и объяснить, почему та легкомысленная вечеринка пробуждает во мне чувство опустошения и отчужденности, желание напиться вдрабадан и непонятную готовность терзаться из-за странной и красивой женщины, как бы пошло и глупо это ни звучало.