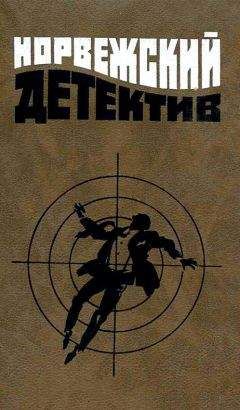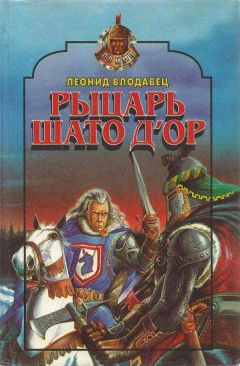— Экономкой? — воскликнула тетя Молла, подняв глаза к небесам, — она апеллировала к чувству юмора Господа Бога. — Да, кое-кто так это называет. — Король пик был твердо положен на даму червей. — Она бегала по острову нагишом, как кошка, взбесившаяся в полнолуние.
— Взбесившаяся в полнолуние? — Напоминание о луне заставило меня вздрогнуть.
— Вот-вот! Прости, Господи, мой язык!
— Напрасно, тетя Молла, благослови, Господи, ваш язык! Спасибо за беседу!
Я встал совершенно очарованный ею, хотя и изрядно сбитый с толку. Она пожала мне руку:
— Поздравляю вас, молодой человек!..
Уже у калитки я узнал, с чем именно она меня поздравляла. Она крикнула мне вслед:
— У вас будет мальчик!
И она не ошиблась.
* * *
Все эти дни я почти непрерывно задавал вопросы. Что же я выяснил, беседуя со всеми этими людьми? С точки зрения журналиста результат был весьма жалкий — я не набрал достаточно материала для статьи, его не хватило бы даже на короткую заметку. Правда, я приехал в Холмевог не по служебным делам. Однако любой журналист предпочитает, чтобы собранные им материалы можно было использовать, даже если он собирает их не из профессиональных побуждений.
Какую-то подоплеку в этом деле я все-таки уловил. Подоплеку, которую можно объяснить трагедией норвежских будней. Старая, грустная история столкновения одиночки с толпой. Но сама тайна произошедшего казалась мне еще более загадочной, чем раньше. Я уже не знал, какие еще можно задать вопросы — рациональные средства были исчерпаны. Может, прибегнуть к иррациональным? Ведь отправила меня сюда не газета, а мой собственный сон?
Оставались еще двое, с кем мне хотелось бы потолковать. Один — гористый великан, другой — покойный художник.
Сначала я решил навестить великана, который, высясь над местными жителями, повелевал ими. Может, он поможет мне понять, что тут случилось, ведь это он сделал Холмевог таким.
Я поднялся на гору, к которой город притулился спиной. На это ушло три часа, и по дороге у меня не раз кружилась голова. Но я не жалел о затеянной прогулке, потому что там, наверху, встретился с этим великаном. На своих синих плечах он нес сотни седых голов, самые дальние терялись в небесах. Я никогда не думал, что он так величествен.
Да, я люблю эту землю, но не слишком ли здесь много простора ветрам?[34]
Я смотрел на север и думал: норвежцы в своей стране — все равно что вши в шевелюре великана. По воскресеньям этот народ морализирует, а по пятницам пьет. Это народ жалобщиков и юродивых, хвастунов и лодырей. Он подмигивает вечности, а собственная жизнь уходит у него между пальцами. Он ловит звезды, но его не хватает даже на то, чтобы собирать бруснику.
О Норвегия, что ты сделала с нами? Мы не в состоянии ничего совершить. Мы начали с «Эдды», а кончили «Трангвикспостен»[35]. Мы высекали руны на островах в море, но в конце концов так запутались в собственном языке, что теперь не можем правильно написать даже свою фамилию. В воскресенье мы открыли Америку, а в понедельник уже забыли об этом. Что такое Винланд, Маркланд и Хеллуланд?[36] Верно, какая-нибудь мелочь, вроде старых подошв, которые нашел Аскеладден, но даже не потрудился взять с собой в королевский дворец… Что ты сделала с нами, Норвегия?
Нет, ты не виновата, что мы не можем равняться с тобой. Ты не виновата, запугав нас до того, что мы превратились в карликов. Испепелив нас. Солнце не виновато, что мы не можем смотреть на него.
Далеко-далеко на севере синева скрывала Гейрангер-фьорд. Я был там один раз. Миля за милей тянется этот фьорд между отвесными, уходящими в небо горными стенами. В том краю фьорд — это улица. Один раз я был там. Неожиданно Бог дохнул между ущельями, и над бездной повисли две радуги, сразу две, одна в другой! Гейрангер-фьорд — самая норвежская часть Норвегии, непостижимо прекрасная и непостижимо пустынная.
Одна мысль о Гейрангер-фьорде может заставить норвежца в ужасе закрыть глаза и вскрикнуть. И он тут же сядет на теплоход и уплывет, безумец, куда-нибудь к черту на кулички.
Я обратил свой взгляд на запад, к Атлантическому океану. Да, это единственное, на что мы способны: уйти в море. Прочь, прочь от этих страшных каменных нагромождений! Достаточно пять минут полюбоваться норвежской природой, чтобы понять, почему наш торговый флот насчитывает тринадцать миллионов тонн водоизмещения и занимает по величине третье место в мире. Норвежец хорошо чувствует себя в море, потому что оно — нечто противоположное Норвегии, то есть самое плоское место, какое имеется на земле!
Среди каменных глыб послышался крик птицы, протяжный и безутешный. Ты права, ржанка, нет ничего прекраснее и страшнее, чем наш Вестланн.
Потому-то здесь, в Вестланне, и началась наша морская сага — началась с массового бегства. Отсюда уплыл Флоки Вильгердарсон, давший имя Исландии. За ним последовали все исландские первопоселенцы — Ингольв Арнарсон со товарищи. Здесь, в Вестланне, сели они на свои корабли, обуреваемые тягой к скитаниям, их гнали отсюда горные обвалы и преследовали радуги, висящие над ущельями…
Хёвдинги уплыли. А простые люди остались, те, что были достаточно мелки, чтобы жить в шевелюре великана. И в тени гор они творили неписаную конституцию Норвегии — кто на голову выше нас, должен расстаться с головой!
Я повернулся на юг: Холмевог. Скопище точек у подножия великана. Кое-кто тогда все-таки остался. Их потомки построили «Иосафат» и убили Сиверта Скоддланда…
Да, я люблю эту землю, иначе я бы на нее не сердился. К тому же меня заразила ненависть, которую мой новый друг, моряк с нелегким детством, испытывал к своему родному городу. А главное, здесь, наверху, мной овладело самодовольство, свойственное только норвежцам. Теперь мне хотелось поскорее спуститься, поесть и завалиться спать.
* * *
Лодка на хорошей скорости шла к Художникову острову, энергично тарахтел мотор. Скоддланд сидел на руле и внимательно смотрел вперед, видимость была не очень хорошая. Погода стояла ясная, светила луна, но над самой водой лежала пелена тумана, и с каждой минутой она становилась все плотней.
Я взглянул на часы — половина одиннадцатого. Мы выехали поздно, прошло всего полтора часа, как я вернулся после моего похода в горы. Скоддланд хотел отложить поездку на завтра, считая, что я устал после такой прогулки. Да, устал, но именно поэтому я настоял на своем. Я был как пьяный от усталости и от того, что плохо спал ночью. Тело у меня ныло после карабканья по скалам, голову покалывало от накатывающей волнами сонливости. Но я как будто сам искал этого состояния. Потому и настоял на выполнении нашего плана: мне непременно нужно было сегодня ночью попасть на Художников остров!
Над пеленой тумана высокой, вытянутой дугой встал остров, вверху виднелся серый фронтон дома. Вскоре мы обошли остров с юга, и дом повернулся к нам боком. В лунном свете обозначилось большое, темное, как морская бездна, окно. Стены словно покосились от ветра, водостоки кое-где оторвались и висели вдоль стен. Мне редко случалось видеть столь заброшенное жилище.
С тех пор как мы сели в лодку, Скоддланд не произнес почти ни слова, но его молчание было выразительней всяких слов — он тяжело сгорбился от отвращения к моему мероприятию. При виде пустынного дома он вздрогнул. Так же вздрогнула и тетя Молла: «Мне было бы страшно оказаться на Художниковом острове после заката!» Я поднял глаза на мертвый дом и понял их обоих. Однако самого себя я понимал все меньше и меньше.
Мы обогнули мыс и вошли в небольшой заливчик, где некогда был причал. Там мы пришвартовали лодку к гнилой свае, я спрыгнул на берег и достал из лодки два рюкзака со спальными принадлежностями. Скоддланд наконец позволил себе выразить свое неудовольствие:
— Не понимаю, зачем тебе понадобилось ночевать здесь?
— Хочу отдохнуть от пансиона. С тех пор как в меня стали бросать по ночам камни, у меня началась бессонница.
Ничего разумного в моем объяснении не было. Просто мне очень захотелось переночевать здесь.
Мы поднялись на пригорок и вышли на узкую, заросшую тропинку. Дверь оказалась упрямой и открылась с трудом, скрип ржавых петель был похож на предостерегающий крик крачек. Я зажег карманный фонарик.
Мы прошли через прихожую и оказались в большой комнате, которая, по-видимому, служила художнику ателье, за дверью стояли остатки мольберта. Внутри было относительно светло, в большое окно, выходившее на юг, было видно море, небо и безупречный диск луны. Мне показалось, что я уловил даже слабый запах масляных красок и скипидара. Но вообще-то воздух здесь был сырой, как в пещере. Стены и потолок были покрыты большими пятнами плесени, обои от сырости вздулись и висели клочьями.