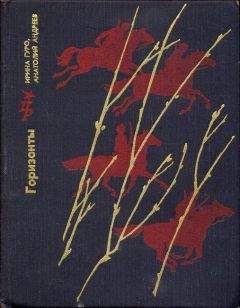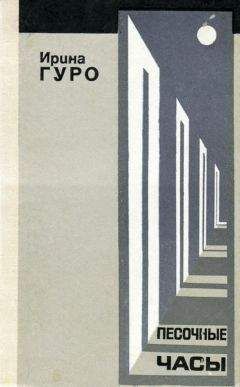Разъяснил поп весьма резонно, но Володька стоит на своем… И Тут вмешивается в спор Грустный, начинает доказывать, что «горько» полагается нам и сполна должно быть отпущено.
Грустный, как я заметила с самого начала, был необыкновенно беспокоен, а теперь и вовсе места себе не находил, лез ко всем, обнимался и в то же время поглядывал на часы.
Под пьяные крики «горько» Володька хватает меня лапищей за шею и начинает бестолково тыкаться губами мне в щеку, и вдруг в самое ухо мое вползает его) прерывающийся шепот: «Пора кончать цирк! Веди меня в комнаты».
Мы посидели еще немного. Больше всех веселился поп Амвросий. То и дело наливал он и выпивал, обращаясь ко мне:
— Ваше здоровье, Е-Пе, пока Се! — то есть Елена Пахомовна, пока Смолокурова.
— А ваше, извиняюсь, как будет фамилие? — спрашивает он Володьку.
— Тыцко, — ляпнул Володька, видно, первое пришедшее в голову.
— Ну так. Значит, пьем за Е-Се, впоследствии Те! — опять затянул поп.
Мы с Володькой прошли в комнату. Это была наша знаменитая «лучшая комната» со слониками.
— Давай уматывать отсюда. Минуты дороги, — сказал Володька, — Мать предупреди, а то шуметь будет.
Я нерешительно двинулась в кухню, но в это время кто-то новый, встреченный бурным восторгом, появился на терраске, и я услышала знакомый голос:
— Лелька явилась? Прекрасно! Давно пора за ум взяться!
Я видела только широкую тень на занавеске и абрис высокой смушковой шапки, какие носили «зеленые» даже летом.
Что-то там пришедшему объяснили. И опять мучительно знакомый голос озадаченно произнес:
— Что еще за жених такой? Тыцко? Откуда бы?
Дверь распахнулась, и перед нами предстал Семка Шапшай. Махновская шапка и редкая бородка нисколько не изменили его.
— Какой же это жених? Какой же это Тыцко? Это Володька Гурко, райкомщик! — Семка говорил спокойно и медленно тянул из кобуры «смит-вессон». Володька опустил руки в карманы, но вытащить оружие уже не смог: сзади его схватили человек с лысиной и Шлапок. В комнате сразу оказалось много народу. Володьку окружили и повели через двор. Я побежала следом. «Задержите ее!» — услыхала я голос Семки, но в это время из кухни вывернулась мама. Она с неожиданной силой схватила меня за руку, потащила к погребу и, прямотаки столкнув меня со ступенек, захлопнула дверь. Я осталась в темноте среди знакомых запахов кислого молока и малосольных огурцов.
«Ужас, как глупо! Какой позор так всыпаться!» — думала я и вдруг похолодела: мне представилось, как там, во дворе, ставят к стенке Володьку. Я бешено забарабанила кулаками в дверь. Никто не отзывался: тишина… Я сбила себе руки, охрипла от крика — ничего!
Не знаю, сколько прошло времени. Снаружи глухо и неясно до меня долетели звуки стрельбы, они все усиливались, как будто бой приближался. Выстрелы смешивались с топотом коней, скрипом тачанок, выкриками.
И вдруг я услышала совсем близко, у самой двери погреба, голос моего папы. Слегка задыхаясь, он продолжал какой-то рассказ:
— Добиг я до пивоварни, а там скрозь пусто. «Где красные? — спрашиваю того старика, що у складу. — Хай тоби грец!» — «В Пески подались, — каже. — Якись, — каже, — латыш ими командуе. Мозоль, что ли, звать…»
Я увидела ясно, как будто не была заперта в погребе, папино лицо с вислыми усами и толстым носом и как он почесывает затылок.
— Ты погодь, Пахом. Описля расскажешь. Видчини ж погреб, выпусти ж Лельку… — просит мама.
— Да хай ей грец! — отвечает папа и, кажется, собирается присесть на порог, потому что мама, слышно, сердито вырывает у него ключи…
Вероятно, руки у нее дрожат, потому что дверь все не открывается, и, потеряв терпение, я кричу:
— Да открывайте же вы! Нашли время балакать!
— Чего скандалишь, Лелька? — слышу я Володькин голос. — Сейчас я тебя выпущу.
Дверь наконец-то распахивается. В проеме открывается сразу очень много: и кусок неба, и лопухи у забора, и Володька с наганом в руке.
— Вылезай! — говорит он мне. — Шмыря живого взяли. А Семку упустили — как угорь вывернулся. Твой отец наших привел.
Но папа его не слушал. Он повернулся к нам спиной и сказал маме:
— Та давай же топорик!
И сделал одиннадцатую зарубку на колу забора.
— Дай боже, щоб последняя, — сказала моя отсталая мама.
Пошли суровые месяцы, слившиеся в какой-то сплошной поток, в котором уже не различались дни и ночи, поселки и леса, станции и степные хутора, а были только окапывания, перебежки, пулеметная трескотня, короткие злые бои, отход, бросок, опять отход… И сны, в которых все повторялось: бои, отходы, броски… Длинные сны, непонятно умещавшиеся в совсем короткие часы отдыха.
Уже никто не помнил Шмыря и никто не радовался его разгрому: банды вырастали как грибы, и мы впервые поняли значение знакомых слов «гидра контрреволюций».
Матрос Наливайко рычал на митингах:
«Выд-р-р-а контр-р-р-революции гр-р-р-роз-ит нам!» А когда слушатели его поправляли: «Гидра, гидра, матросик, у ей сто голов!», Наливайко кричал еще громче: «Такого зверя нету, а выдра — дай ей волю! — у нас последний кусок изо рта выдер-р-рет! Не дадим выдр-ре ж-р-р-ать наше мясо, пить нашу кр-р-ровь!» — «Не дадим!» — кричали в ответ наэлектризованные слушатели на фабричных дворах и сельских сходах. «Вставай, проклятьем заклейменный…» — первым начинал Наливайко, и гимн гремел, а кто не знал слов, открывал рот, словно ждал, что такие новые, такие дорогие слова сами в него влетят.
И все же только сейчас поняли, что такое «гидра»! «Гидра» — это банды, бандочки, бандищи, белые, «зеленые», от них рябило в глазах, звенело в ушах, все тело наливалось страшной тяжестью, а в груди клокотала такая ненависть, что даже во сне мы ощущали ее горький вкус…
Может быть, это и не так было, но казалось, что все тяжелое началось с дождливыми днями, которые пошли одни за другим без просвета, без роздыха, и заволакивали серыми туманами долины, и гасили костры, плюющиеся искрами сырых веток, и расстилали жидкое месиво чернозема под рваными сапогами, и веяли тяжелыми запахами мокрого шинельного сукна и отсыревшей махорки.
Октябрьской ночью нас подняли по тревоге. Озол вел отряд по карте: никто не знал этих мест, диких и мрачных, словно не Украина-мать расстилалась кругом, а чужая земля дышала пронизывающим ветром прямо в неотогревшееся наше нутро.
Командир не решился идти дальше по лесу, который гудел от стрельбы, а Где были бандюки, понять нельзя было, не разведав.
— Кто пойдет? — спросил Озол. И вызвался идти старик рабочий. Может, он и не был стариком, может, ему было Лет тридцать пять, только нам он казался стариком. Может быть. Я уже не видела его больше живым и не знаю этого.
Рабочий сказал:
— Я пиду, командир.
И тогда вышел мальчик, которого мы даже не замечали — так, вился вокруг нас пацан, — и сказал:
— И я с тобой, батько!
— Пидемо, — ответил отец.
Из темноты вынырнула Наташка со своей санитарной сумкой через плечо и молча стала рядом с ними.
— Добре, — сказал старик.
Озол сделал какое-то движение, но Наташа предупредила его:
— Я пойду, Жан.
И он промолчал.
Мы кое-как расположились на люляне. Я помню, что долго не могла согреться в своей сырой одежде, а костер разжечь командир не разрешил. Потом я заснула, как в омут свалившись, и спала, кажется, всего несколько минут. Меня разбудил Володька. Было все еще темно, но на востоке, где должно было всходить солнце, расплывалось светло-розовое бессильное пятно.
— Пойдем искать их. Тревожно. Озол беспокоится. И стрельба прекратилась, — сказал Володька.
Мы пошли, Володя — впереди, я — сзади. В редеющей тьме я видела его затылок под околышем железнодорожной фуражки и широкую спину в шинели, потемневшей от сырости.
Мы шли лесной тропой, уже ясно различимой в бледном свете утра. Опушка открылась перед нами. Она обрывалась оврагом.
Что-то белело на дне оврага страшной, неестественной белизной. Володька побежал по склону, и я за ним, скользя, цепляясь за мокрую и почему-то липкую траву.
Первым мы увидели мальчика, лежащего на дне оврага между крутых травянистых его берегов. Совсем нагой и словно светящийся, лежал он в глубокой, чуть туманной купели, в такой страшной тишине, какая не могла и не должна была быть на этом свете.
Старик висел на дереве над сыном, едва не касаясь его пальцами вытянутых ног, словно в последней смертной судороге хотел дотянуться до родной плоти.
— Замолчи! Замолчи! Слышишь? Замолчи, а то вдарю! — кричал Володька, и тут я только заметила, что все время повторяю одни и те же слова: «Они увели ее. Они увели ее».
Мы бежали по оврагу и увидели Наташку… Она не была убита. Она была растерзана.