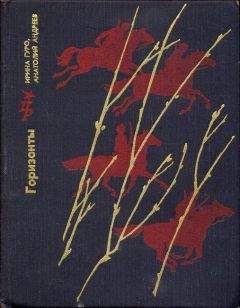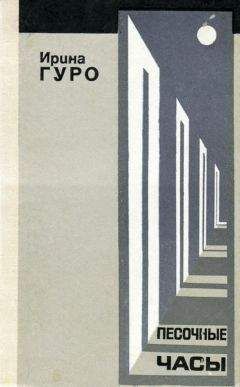Роман посвящен комсомолу, молодежи 20—30-х годов. Героиня романа комсомолка Тая Смолокурова избрала нелегкую профессию — стала работником следственных органов. Множество сложных проблем, запутанных дел заставляет ее с огромной мерой ответственности относиться к выбранному ею делу.
День начался плохо: у меня украли ботинки. Высокие ботинки со шнуровкой спереди, которые мне сшили в заводской мастерской из папиных заготовок на сапоги. Их утащили прямо из-под гладильной доски, на которой я спала. Я боялась клопов. Они были всюду. Только в гладильной доске их не было.
Босиком я опрометью выбежала в коридор, как будто там сидел и дожидался меня вор с моими ботинками под мышкой. Дверь на лестницу была настежь, а на замки мы вообще ничего не запирали. Принципиально.
В это время зазвонил телефон. Звонил мой папа. Я еле слышала его. Можно было подумать, что он говорит не с завода в Лихове, а по крайней мере из Москвы. Хотя он надрывался изо всех сил.
— Лелька! — орал мой папа. — Ты там с раклами спуталась, в комсомол записалась…
— Ну и что? — крикнула я, воспользовавшись тем, что папа поперхнулся от злости.
— А то, что придут белые, тебя пороть будут…
— Не придут, дудки! — кричала я.
— Тогда я сам тебя выпорю! — донеслось до меня из какой-то дальней дали вперемежку с продуванием трубки.
— Руки коротки! Кончилась ваша власть! — кричала я.
— Ах ты! — заревел папа.
Я знала, что будет дальше… Накося выкуси! Я покрутила ручку телефона: дзинь, дзинь, дзинь!.. Папа был отключен вместе с Лиховом и всем, что там, позади: беленьким домиком на краю поселка, слониками на комоде и резедой в палисаднике, со старинным граммофоном — «Танго любви», «Пупсик» — и томиком Лермонтова на этажерке — «Печальный демон, дух изгнанья»… Подумаешь! Я сама теперь дух изгнанья!
«С раклами!» — вспомнила я и опять вскипела: «ракло» на местном диалекте означало «жулик», «босяк», но звучало как-то даже сочнее и обиднее.
Хорошенькое утро выдалось! Я страшно расстроилась.
Не из-за разговора. Плевать я хотела на Лихово. Из-за ботинок. Теперь я буду ходить босиком. Правда, многие наши девчата ходят босиком — не зима. Но ботинки меня украшали. Мое единственное выходное платье расползалось по швам. Платочек, когда-то красный, выцвел на солнце. В ботинках мне было жарко, но я терпела.
Недавно в молодежной газете появилась карикатура: с одной стороны, была изображена размалеванная и разряженная нэпманская девица, с другой — комсомолка, нечесаная, в потертой кожаной куртке. Внизу надпись: «На одной жениться нельзя, на другой — невозможно!»
Это было то, что называлось «клеветническим выпадом». Мы одевались очень аккуратно. И свои ситцевые платьишки даже крахмалили, не жалея картошки на крахмал. Вероятно, поэтому они у нас расползались.
Из кухни вышла Наташка с полотенцем через плечо.
— Кто звонил? — спросила она лениво.
— У меня украли ботинки, — объявила я.
— Что же, тебе телефонировал вор? — Она сощурила свои красивые зеленые глаза.
Семка Шапшай говорил, что Наташа выйдет замуж за советского дипломата и даже консула… Начитался не то Гамсуна, не то Ибсена: «Консул Бервик» и все такое. Нашел кого читать в наше время! «Что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах…» Консула он прочил Наташке, а про ветерок читал мне.
Впрочем, было время, когда я охотно сидела с ним на Университетской горке под акацией. И Семка читал мне стихи, свои переводы с французского. Он читал сначала по-французски. Я не знала языка, но мне нравилось протяжное звучание стихов, убаюкивающее и многозначительное. Потом Семка переводил:
В бесконечной тоске беспредельной равнины
Снег, меняясь, блестит, словно гребень волны.
Это небо из меди, без всякого света.
Можно думать, что видишь рожденье луны.
И в русских словах было то же волшебство, то же чудо, притягательное и открывающее другой мир, существующий, да, несомненно, существующий, но как бы за высокой стеной. И в стене этой словно бы открывалась вдруг узкая, увитая плющом калитка, совсем незаметная. И была видна ночная темная акация, под которой сидели мы с Семкой, и кусочек мелко вспаханного ветром неба с острыми пламечками звезд. И все это виделось со стороны. Совсем со стороны я видела и себя с Семкой, и небо из меди, и снег… И невидимый всадник в крутом седле месяца скакал по бурунам облаков.
Все-таки что-то меня смущало.
— А ведь это, пожалуй, отрыжка, — заметила я.
— Какая отрыжка? — удивился Сема.
— Что значит «какая»? Отрыжка декаданса! — Я сама писала стихи и знала, что к чему.
— Это не отрыжка, — раздраженно ответил Сема, — это сам декаданс.
Я насторожилась. Красивые стихи, безусловно, отвлекали от борьбы и, может быть, даже размагничивали.
Это было страшное слово! Безобидный корень «магнит» в нем начисто улетучился, и оно означало отлучение от всего, что составляло смысл нашей жизни.
А про Володю Гурко из райкома Семка говорил, что он узкий, как футляр от флейты. Что у него нет кругозора.
Окончательный наш разрыв с Семкой произошел из-за нэпа. Семка утверждал, что мы идем назад к капитализму и что это закономерно. А когда я ему разъясняла, зачем нам нэп и что это временно, Семка говорил, что я тоже футляр от флейты.
И мы разругались. А потом он вдруг сделался анархистом.
Услышав, что у меня украли ботинки, Гришка Химик, который торгует сахарином, приоткрыл дверь своей комнаты:
— Подумаешь, у нее ботинки украли! Событие! У людей больше забрали.
— Молчи, зануда! — сказала Наташка, сохраняя невозмутимый вид жены консула, и захлопнула Гришкину дверь ударом ноги.
Через перегородку было слышно, как Гришка ругнулся.
— Слушай, а откуда мог взяться вор в нашем обществе? — спросила я, пораженная этой мыслью. — Ведь у нас обрублены все корни преступности…
— Родимое пятно, — отрезала Наташка и милостиво добавила: — Можешь носить мои деребяшки.
У Наташки были маленькие, не по росту, ноги. Деревяшки пришлись мне как раз. Я давно о них мечтала. Девчата с особым шиком постукивали ими по тротуару. Поэтому они назывались еще «лапцым-дрицым». Когда стояла жара, деревяшки не стучали, а оставляли на мягком асфальте вмятый след. Если ремешки, на которых держалась деревянная подошва, обрывались, то «лапцым-дрицым» складывались бутербродиком и засовывались в портфель, а их обладательницы продолжали путь босиком.
Мы все ходили с туго набитыми портфелями. В них носили пайки хлеба, протоколы собраний и стихи пролетарских поэтов, которых мы слушали на вечерах в Пролеткульте. Когда Панкрат Железный, тряхнув темным чубом, начинал читать своим могучим голосом про Революцию, про Войну, про Эпоху, честное слово, мы чувствовали себя Маратами и Сен-Жюстами… А что? Почему бы нет? Мы тоже делали революцию. При этом пролетарскую, а не буржуазную. И не на какой-то короткий срок, а навсегда!
Пока я прицепляла деревяшки, Наташка излагала свои соображения, она ведала в нашей коммуне низменными делами: насчет пропитания.
— Осталось: хлеба — полбуханки, пшена — с кило, подсолнечного масла — на донышке. Три воблы. И картошки <— семь штук.
— Можно нажарить картофельных оладьев, — легкомысленно предложила я, занятая деревяшками.
— На чем? На слюнях? — прищурилась Наташка.
Но я уже убегала.
— На «Везувий»? — осведомилась Наташа.
— На «Этну», — отозвалась я на бегу.
На окраине города, в улочках, носящих живописные названия: Зеленая, Вешняя, Смородинная, приютились маленькие фабричонки, громко именуемые: «Везувий», «Этна» и «Гекла». Они производили спички. «В порядке нэпа» их вернули старым владельцам. Я руководила кружками политграмоты на этих предприятиях.
На «Везувии» кружок посещала пожилая уборщица Сара. Она всегда задавала один вопрос: «А бог есть?»
И как я ни распиналась, видно было, что сомнения гложут Сару, и она опять кротко спрашивала ни к селу, ни к городу: «А бог есть?»
Вдруг она перестала приходить на кружок. Нам даже не хватало ее поникшей фигуры и вечного вопроса о боге. Потом выяснилось, что староста кружка Колька Гнездилов «частным образом» сообщил Саре, что бог есть, и она успокоилась. Поступок Гнездилова мы строго осудили. Вопрос стоял даже так, что следует навестить Сару и все-таки разубедить ее в существовании бога. Но никто не соглашался дезавуировать Кольку Гнездилова. В глубине души каждый был доволен, что мы избавились от Сары. Антирелигиозная пропаганда считалась «узким местом», как было принято говорить.