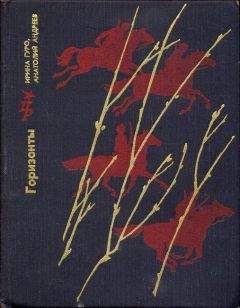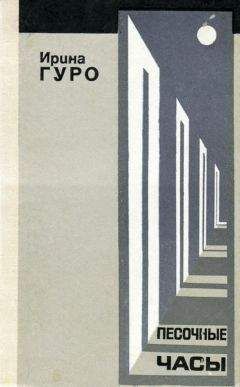Ребята замерли. Дядя некоторое время молчал.
Я мало его знала. Он появился у нас только после революции. Раньше он был в ссылке, в Сибири. А потом за границей. Он еще до революции был большевиком. Но с этим не вязались полосатые носки и дядины усы «в стрелку», по моде, «ушедшей на свалку истории», как у нас любили выражаться, вместе с частной собственностью на средства производства.
Когда дядя заговорил, его голос удивил всех: тихий, с интонациями раздумья, непохожий на энергичную и прямолинейную манеру, принятую у нас.
— Видишь ли, Лелька, твой отец не буржуа, — он сказал «буржуа», а не «буржуй», — он старый рабочий. И нечего от него отмахиваться.
— Он против того, что я в комсомоле! — выкрикнула я, чувствуя, что краснею до ушей.
Дядя помолчал, погладил усы и вдруг улыбнулся. Улыбка у него была как у моей мамы: вверху, между передними зубами обнаруживалась щелинка.
— Ну и не слушай его. А узелок все-таки разверни. Устроим пир! — сказал дядя.
Наташа мгновенно схватила большой медный чайник и помчалась на кухню. Сейчас же басовые выхлопы и размеренное шипение примуса возвестили начало «эры процветания». Процветание и упадок в нашей коммуне чередовались с неуклонностью экономических кризисов капитализма. Наше благополучие зависело от получения кем-либо из нас пайка или от случайного заработка. Котя Сухаревич, например, имел огромный успех в качестве лектора в воинских частях. Восторг Котькиных слушателей материализовался в крупном, военного времени, сахарном песке и связках сушеной воблы.
За чаем мы изложили дяде принципы нашей коммуны. Мы считали себя людьми будущего. У нас были творцы будущей индустрии: Федя Доценко и Микола Щацюк. Они работали на механическом заводе, который пока что занимался мелким ремонтом и делал зажигалки. Котя, пламенный трибун и публицист, шел во главе нашей маленькой колонны, усыпая нам путь цветами своего красноречия. Наташа была музой коммуны: она пела неистовым контральто, отлично передававшим суровое звучание походных песен. Володька Гурко, инструктор райкома и центрфорвард футбольной команды депо Южного узла, олицетворял собой гармоническое развитие человека в коммуне грядущего. А я? Я, Лелька Смолокурова, была рядовым коммунаром.
Пока дворцы коммуны не были построены, а те, которые достались нам от старого режима, не приспособлены для общежития, мы занимали три комнаты в бывшей буржуйской квартире.
Дом был заселен чекистами и нэпманами. Чекисты поселились, как и мы, по ордеру коммунхоза. Нэпманы жили здесь и раньше, когда они еще были не нэпманами, а просто «состоятельными людьми». Гришка, торгующий сахарином, учился тогда в гимназии и брал уроки музыки. Его мама — зубной техник «с большой практикой» — занимала всю эту квартиру. А Сигизмунд Шпунт-Драгунский, «король валютчиков», несмотря на свое пышное имя, служил письмоводителем у захудалого адвоката.
Теперь все они были «продуктами нэпа». Между нами шла тихая упорная борьба. Голодные, отощавшие, мы с презрением отворачивались от сковороды, на которой Гришкина мама жарила яичницу, и от ломтей душистого белого хлеба, которые она лицемерно нам предлагала. Нас поддерживала на своих могучих крыльях вера в будущее, в то время как рыцарей нэпа трясла лихорадка временщиков.
Мы пили морковный чай, заваренный в медном чайнике, и ели пайковый хлеб, иногда с солью.
А теперь мы поглощали мамины пироги с картошкой, черные, тяжелые и рубчатые, как гранаты, со сладостным предвкушением редкой в нашей жизни сытости.
Одновременно мы с увлечением разворачивали перед дядей свои планы на будущее. Дядя слушал, и вдруг раздался его голос с той же странной интонацией:
— Я думаю, что прежде всего вам, друзья, предстоит стать солдатами.
Оживленные и уже почти сытые, мы не расслышали в его словах сигнала близкой опасности.
Я пошла проводить дядю.
— Вам понравились мои друзья? — спросила я.
По правде сказать, мне хотелось узнать, что думает дядя обо мне лично.
— Вы все — славные ребята… — Он запнулся. — Но, понимаешь, уж очень самоуверенные. Меня это немного пугает, а?
Я не нашла, что ответить.
— И мне хотелось бы, чтобы вы были… образованнее, — продолжал дядя задумчиво, словно говоря сам с собой. — Мы захватили власть. И удержали ее. Но будут еще трудности. Все не так просто. Понятно тебе?
«А что не просто? Как раз очень просто. Все-таки он какой-то старомодный», — подумала я про дядю.
Когда я вернулась, Гнат сидел на ступеньке под «гландами» и дремал. Я совсем забыла про него.
— Ты чего тут? — спросила я. — Иди домой, поздно.
— Нема у меня дома, — неожиданно ответил юноша, — я с села убиг. Куркули со свету сживают.
— Куркули? Ах, злыдни!
Я вспомнила, как когда-то Володька Гурко «втолкнул» меня в коммуну.
— Оставайся у нас! — тут же решила я.
Мы с Наташей отправились к ее родным на Ток- маковку. Это было настоящее путешествие. Мы шли через весь город, отбивая шаг деревянными подошвами. Трамваи не ходили, автобусы тем более.
Стоял июль, было очень жарко. Местами асфальт плавился, и наши деревяшки оставляли на нем ясный отпечаток.
Мы шли сначала городом, по улицам которого деловито сновали совслужащие с портфелями, комиссары в кожаных куртках и кавалерийских штанах с кожаными леями, комсомольцы в косоворотках с маленькой красной звездочкой, приколотой на груди. Их суровый строй изредка перебивали яркие пятна нэпманских девиц в рубахообразных по моде платьях диких расцветок, со спутанной гривой волос, распущенных по плечам. Девицы бродили по размякшему асфальту неприкаянные, как выходцы с того света.
Мы проходили аллеями городского сада, который был расчищен и ухожен нами на субботниках, устраивавшихся по субботам, по воскресеньям и по другим дням. Теперь сад выглядел не хуже, чем при баронессе Ган, которой принадлежал раньше.
Мы шли по городу, мрачно косясь на паштетные, появившиеся чуть не в каждом квартале. Почему-то все закусочные и кухмистерские назывались паштетными. Можно было подумать, что во время нэпа кормятся одними паштетами! Вероятно, владельцы не решались на гордое «Ресторан» или «Кафе». «Паштетные» — выглядело скромнее, ближе к духу времени.
Появились причудливые вывески, бог знает что сулящие. На Университетской горке над выкрашенным в канареечный цвет павильоном висела вывеска: «Производство персидских граждан. Артель». А внизу мелкими буквами: «Люля-кебаб». Мы не знали, что такое люля-кебаб. Володя Гурко уверял, что это красавец перс, «произведенный» в этом закутке. Федя предполагал, что так звали коня, из которого изготовлялась продукция заведения: жесткие мясные завитки, подаваемые на железных палочках.
Иногда нэпманы, подделываясь под советский стиль, называли свои заведения сокращенно. «Растмаслопонч» — это звучало как боевой клич неведомого племени, но означало всего лишь ларек, где жарились на постном масле пончики.
Мы смотрели на балаганы под выцветшими вывесками с наскоро закрашенными твердыми знаками, как мореплаватели на неожиданно открывшиеся им острова, населенные вернее всего людоедами.
Наташины отец и мать с малышами жили в старом деревянном доме с мезонином, как у Чехова.
Мы пришли с тайной надеждой что-нибудь перехватить. Конечно, Наташина мать стала усаживать нас обедать, но мы увидели, что хлеб и картошка у них уже разделены на каждого, и сказали, что торопимся. Мы действительно спешили в нашу школу — на суд. И ушли не солоно хлебавши.
В то время мы все кого-то судили. Например, был общественный суд над Евгением Онегиным. «А за что его судить? — удивлялась Наташина мама. — В чем он виноват?» Мы разъясняли ей, что Евгений Онегин — типичный продукт дворянско-помещичьего режима, ретроград, его надо беспощадно разоблачать в глазах масс.
— А как же «ярем он барщины старинной оброком легким заменил»? — спросила Наташина мать.
Наташа посмотрела на нее с грустью:
— Не срамилась бы ты, мать: знаем, какой он легкий бывает, оброк. Крепостник и есть крепостник.
А я вспомнила, что там дальше идет: «И раб судьб благословил», и закричала:
— Ваш Пушкин тоже хорош! Заодно с Онегиным против трудового крестьянства!
Наташина мама, как совершенно темная женщина, старорежимная преподавательница, ничего не понимала. А Наташин папа, техник по электричеству, сказал:
— Подымать производство надо, а вы — болтуны.
После этого делать нам тут было нечего, и мы пошли судить греческого философа Платона.
Суд продолжался очень долго. В те годы все: заседания, митинги, диспуты — продолжалось очень долго.
Пока ораторы не начинали хрипеть. А у нас в школе, пока не входил сторож Кондрат по прозвищу «Эсер малахольный» — он в начале революции с перепугу записался в партию эсеров — и не заявлял: