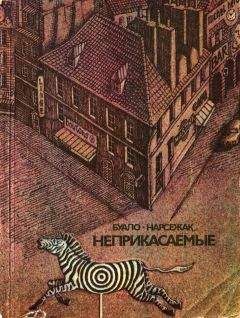— Она была беременна. И совсем потеряла голову.
— Но слушай, в конце-то концов… Этот ваш Ронан…
— Он не знал об этом. Она не успела ему сказать. Знай он, что она беременна, он был бы осторожнее. Он ее без памяти любил. Она была для него всем.
— Хорошенькая любовь!
Эрве грустно улыбается.
— Ты не понимаешь, — говорит он. — Ронан — человек одержимый. Он всегда все делает истово. Любит ли, ненавидит ли — все на полную катушку. И есть еще одна вещь, о которой не стоит забывать. Он тщательно подготовил покушение и был уверен, что ничем не рискует.
— Так все говорят. А потом вон что получается.
— Да нет. Я по-прежнему считаю, что, не донеси кто-то на него, он выбрался бы сухим.
— Но если я правильно тебя поняла, никто ничего не знал!
Допив стакан, Эрве тщательно вытирает рот.
— Поговорим о другом, — говорит он. — Все это уже быльем поросло!
— Еще один вопрос, — говорит Иветта. — Хоть вас и не трогали, но полиция разве не начала уже к вам присматриваться? Наверняка все вы в той или иной степени были у нее на крючке.
— Бесспорно. Но Ронан заявил, что действовал без сообщников, как оно и было на самом деле. Он взял все на себя.
— И на том спасибо.
— Тебе не понять, — раздраженно качает головой Эрве. — Ронан никогда не был подонком.
— Ты просто влюблен в него!
— Ничего подобного… Во всяком случае, уже не влюблен.
— Но ты снова стал с ним встречаться. Я бы на твоем месте на все это плюнула.
Эрве задумчиво катает хлебный шарик.
— Видишь ли, — тихо произносит он, — подонок-то ведь я. Я должен был бы выступить свидетелем в его защиту. А я этого не сделал. О, я знаю! Ничего изменить я не мог. Он все равно получил бы свои пятнадцать лет. Но я — я бы чувствовал, что исполнил свой долг… Что ты хочешь на десерт?
— Твой друг…
— Нет. Хватит. Больше о нем не говорим. Я, пожалуй, возьму мороженое и кофе покрепче. А ты что?.. Кусок торта? Да брось! Выкинь ты это из головы! Жить надо настоящим.
Он наклоняется и целует Иветту в ухо.
Дорогой друг!
Писать Вам уже вошло у меня в привычку. Простите, что выплескиваю на Вас потоки моей убогой прозы. В монотонной серости моей жизни минуты, которые я посвящаю общению с Вами, становятся теми единственными мгновениями, когда я снова делаюсь самим собой. Но к Вам я обращаюсь не для того, чтобы сетовать на судьбу, — уверен, Вы понимаете это, — а потому, думается, что на моем примере можно проследить судьбы тысяч, десятков тысяч людей моего поколения. Главное, даже не пережить, а воочию увидеть, что происходит: мы умираем внутри себя, как умирает под корой изъеденный червями ствол дерева.
Не будь я женат, возможно, я сопротивлялся бы лучше. И все же, не знаю. Может быть, и наоборот, я давно уже отказался бы от всякой борьбы. Но есть Элен, которая меня поддерживает, подбадривает и которая, наверное, нет-нет да и спрашивает себя: «Что же он за человек?» Точно я недостаточно упорно борюсь за существование! Это самое болезненное в наших отношениях. Но мы предпочитаем этого не касаться. Пока еще это как синяк от поцелуя. Но уже завтра он грозит стать неизлечимой гематомой.
Я хорошо понимаю, что могло бы умиротворить Элен. Она хотела бы обратить меня в свою веру, кажется, я уже говорил Вам об этом. Она ждет от меня того единственного доказательства моей доброй воли, какое я не могу ей дать. И мы яростно из-за этого ссоримся. Она корит меня за то, что я не молюсь вместе с нею, как бы взваливая на нее весь груз духовной деятельности. И как могу я не чувствовать за этим подспудную мысль, что я взваливаю на нее и все заботы о нашем материальном благополучии? Я и не пытаюсь спорить. Достаточно того, что я знаю, как мне поступать. И если ее вера мне смешна, это мое дело. Но вот Вам парадокс: каждый со своей стороны считает, что другой в некотором роде калека, а потому между нами никогда нет полного согласия.
Увы, я во всем изверился и нисколько уже не надеюсь на те шаги, которые по-прежнему предпринимаю каждый день. Временами у меня возникает чувство, будто я играю в «Монополию»[6], когда надо без конца, снова и снова, возвращаться на начальную клеточку и снова и снова составлять свое curriculum vitae[7].
Фамилия. Имя. Место и дата рождения. Где и когда проходили военную службу? Чин, если имеется. Водительские права. Номер, дата, место выдачи… Далее перейти к образованию и дипломам, указать, владеешь ли — и насколько свободно — одним или несколькими живыми языками. Далее — уточнить семейное положение и подробно описать работу по профессии. Все это смахивает на стриптиз, причем вы не только раздеваетесь, но и выворачиваетесь наизнанку, характеризуя себя еще и с моральной стороны. А я всегда об этом забываю. Поскольку бумаги мои все равно пойдут в корзину, я ограничиваюсь лишь несколькими общими сведениями, которые механически воспроизвожу. Я заранее знаю, что мне выпадет путь либо в колодец, либо в тюрьму, либо на изначальную клетку со словом «Старт».
И бессмысленная игра начнется сначала. А деньги тем временем текут и текут. И это при том, что мы не позволяем себе никаких излишеств. Раньше я покупал книги. Теперь я себе в этом отказываю. Куда проще пойти в Бобур[8] и рассеянно перелистать несколько журналов. Я утратил вкус к приобретению знаний. Зачем мне они в самом деле? Только бы дотащиться до конца дня, оставляя за собой вереницу окурков. Утешает меня то, что безработных вокруг становится все больше. И мы узнаем друг друга по каким-то неопределимым признакам. Мы обмениваемся несколькими словами, но в откровенности не пускаемся никогда, так как они причиняют боль и так как в глубине души давно уже никто никем не интересуется. Правда, от такой встречи мы испытываем тайную радость: «A-а! И вы тоже!» И каждый продолжает путь, который никуда не ведет. Я часто думаю, что подобное безразличие, медленно замораживающее душу, — наистрашнейшая форма насилия.
Помню, когда я был в Ренне, я вел споры с юношами, которые организовали нечто вроде тайного общества, ставившего перед собой весьма неопределенные цели. И прежде всего они выступали как раз против насилия со стороны родителей, педагогов, всемогущего государства. Коварное, изощренное насилие, некий груз, который парализовал их, лишил свободы и который они стремились сбросить с себя.
«Надо поднажать и выбить крышку», — утверждали они. По ходу должен заметить, что в деле своем они весьма преуспели и все закончилось трагедией.
Но то исподволь осуществляемое насилие, против которого они справедливо восставали, — я-то понял это слишком поздно, — было еще не самой жестокой его формой. Вести борьбу, потерпеть поражение — куда ни шло! Но если тебе невдомек, что ты уже побежден? Что все человеческое уже выдавлено из тебя, словно мякоть из плода, и осталась лишь пустая оболочка?
Это как раз про меня. Элен встает, причесывается, пудрится, варит кофе и вдруг становится неким бесплотным контуром. Бесполезно тянуть к ней руки. Она вне досягаемости. Так дни идут за днями, их сменяют ночи, и Элен всегда рядом, но никогда не вместе со мной. Она говорит, что мне надо бороться. А не то жди депрессии. Но что значит бороться? Весь мир знает, что безработица растет, а общественный механизм все глубже увязает в проблемах. Элен же существует в неком легкомысленном пространстве, где она видит лишь женщин, единственной заботой которых является их красота. У Элен нет времени читать газеты, и радио она слушает, только чтобы узнать о конкурсах. Мир не ставит перед ней никаких проблем. Есть Бог, есть Добро и Зло. И Добро, разумеется, всегда одержит верх. А если в жизни что-то не ладится, нужно укрыться под зонтиком молитвы. Худо никогда долго не длится. Войны кончаются, эпидемии сходят на нет. Жизнь всегда отыщет способ пробиться и победить.
Я сжимаю кулаки. Сдерживаю себя изо всех сил. Ланглуа на моем месте давно бы уже заорал: «Господи ты боже мой, конечно, когда по уши сидишь в дерьме, только и остается утверждать, что жизнь прекрасна!»
Простите, дорогой мой друг. Я Вас оскорбляю. Тем более, что Вы по целому ряду вопросов сходитесь с Элен. А вот мы с ней расходимся в разные стороны, все дальше и дальше. Причем я не упрекаю ее в том, что вера ее поверхностна. Я упрекаю ее в том, сам этого стыдясь, что она принадлежит к касте привилегированных, к тем, кто всегда найдет работу, потому что женщины всегда будут заботиться о своей прическе, тогда как я чувствую себя чернорабочим, полунищим, человеком, который не умеет даже воззвать о помощи. Подумать только, какое у меня было безоблачное детство, и сколько лет потом меня не тревожили мысли о завтрашнем дне! И вот я возжелал свободы, не подозревая, к чему она меня приведет. Я гордился тем, что сам избрал свой путь. Я походил на добровольца, не нюхнувшего еще унижения окопов. Пушечное мясо и кризисное мясо — одно и то же. А я, ко всему прочему, страдаю еще и оттого, что плохо одет, что ко мне обращаются на «ты», что приходится курить омерзительные «Голуаз».