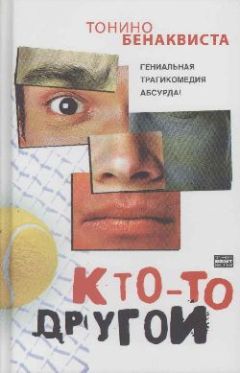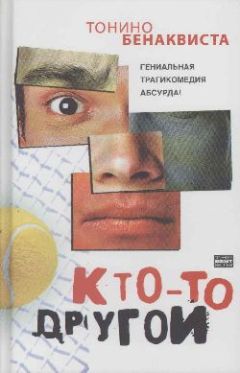Для начала надо понять, как эта картина здесь очутилась. Я сажусь прямо на пол, прислонившись спиной к железной стойке стеллажа. И делаю глубокий вдох.
— Это было куплено? — спрашиваю я.
— Естественно, иначе как это могло здесь оказаться? Вон и инвентарный номер имеется: «110 0225», — читает он болтающуюся на резинке этикетку.
На какой-то миг я прикрываю глаза. Ровно на столько, чтобы прийти в себя и задать новый вопрос.
— Ладно, Нико, а можешь ты мне сказать вообще, какую информацию можно вытянуть из того, что здесь валяется.
— Ну-у-у… это зависит от того, когда вещь была куплена. В данном конкретном случае я могу сразу сказать тебе, что написано на этикетке. Название: «Опыт № 8». Автор: Объективисты. Размер. Тип. Дата: 1964. Если поискать в инвентарных списках по номеру, можно, наверное, еще чего-нибудь отрыть.
Он гордится своей находкой. А вот у меня какое-то странное чувство. Как будто я в начале пути.
Я могу еще отступить.
Мне надо выйти, глотнуть свежего воздуха, а главное — купить поляроид, чтобы унести с собой доказательство того, что я иду в правильном направлении.
Через час фотография уже у меня в кармане. Нико всем видом показывает, что не одобряет такие предосторожности.
— Ладно, теперь можно поговорить серьезно. Мы с Веро отвечаем за хранилище, мы должны всё знать, а главное — понимать, что тут происходит. И, если честно… заморочки нам не нужны. Мне нелегко это говорить, ну, в общем, ты забираешь свою фотографию, получаешь сведения, которые тебе нужны, и всё, баста, я скручиваю ее обратно в трубочку, кладу на место и конец. Теперь, если кто-то спросит меня, где инвентарный номер 110 0225, я ему отыщу его в момент. О'кей? Я не желаю знать, в чем тут дело, зачем ты все это раскапываешь и что собираешься делать с этим потом. Знаю… тебе здорово досталось там… Но меня это не касается. Я не хочу волновать Веро. В следующий раз ты придешь в хранилище, просто чтобы нас проведать. Заметано?
Начало пути. Нико только что подтвердил это.
— Заметано.
* * *
Свет на лестнице гаснет между двумя этажами, и это выводит меня из равновесия. Изо всех сил я цепляюсь левой рукой за перила и, подавшись вперед всем телом, медленно карабкаюсь вверх. Звяканье ключей, свет снова зажигается, сверху спускается мой сосед по площадке.
— Вам помочь?
— Нет.
— Если вам что-нибудь понадобится, вы всегда можете постучать к нам.
— Спасибо.
У меня отвратительная манера говорить «спасибо» — звучит как «пошел ты!». Надо последить за собой. Я не хочу, чтобы тот психолог оказался прав. Я не держу зла на тех, кто совсем ни при чем.
Дата написания картины и дата приобретения совпадают. 1964 год. Это мне не говорит ни о чем, кроме того, что это год отъезда Морана в Штаты. В инвентарных списках за этот год Нико не обнаружил ничего нового, кроме месяца приобретения: сентябрь. А в каком месяце тот оставил родную землю? В качестве автора значится только «Объективисты». Он объяснил, что, если художник предпочитал подписываться псевдонимом, его настоящее имя может так и остаться неизвестным. В данном случае речь шла, должно быть, о группе с неизвестным количеством участников. Правда, тут тоже нет никакой уверенности, потому что все это могло быть чистым вымыслом самого автора. От них всего можно ожидать. Имя Морана нигде не фигурирует. Я не знаю, был ли он сам объективистом или воспользовался одним из их мотивов, а может, просто хотел воздать им должное. Или он их просто сам создал. С современным искусством всегда надо быть на чеку. Судя по тому, что я прочитал по теме, некоторые художники никогда не подписывают своих работ, другие подписываются чужими именами, а есть группы, которые умудряются прославиться, сознательно оставаясь безымянными. Действительно, никогда не знаешь, где кончается высокое служение искусству и начинается элементарная самореклама. Я перечитал, уже с новой точки зрения, страницы, где подробно говорится о группах. Интересно. Они появляются около шестьдесят шестого или шестьдесят седьмого года под странными, малопонятными названиями. И нигде ни слова об объективистах. Но это меня мало удивляет, потому что, если бы они были хоть мало-мальски известны, Кост обязательно упомянула бы о них и провела параллель с Мораном. А тут — ничего. И никто ничего не знает о жизни Морана в период между окончанием Школы изящных искусств и отъездом в Штаты. А государство между тем приобрело у этих объективистов картину.
Сколько времени прошло между «Опытом № 8» и «Опытом № 30»? Двадцать два дня? Двадцать два года? Или просто двадцать два опыта? У каждого свой цвет, свой мотив, может быть, лестница в оранжевых тонах, а может, дверная ручка в луже белой краски. Я бы написал бильярдный кий на зеленом фоне с двумя белыми штрихами. Но я не художник. Никто не спросил моего мнения. А мне, тем не менее, это кажется гораздо более красочным, чем все остальное. Самое трудно было бы воссоздать движение — оно не бывает случайным.
Туристы восхищаются разноцветными трубопроводами и выставленными на всеобщее обозрение лесами Бобура. Выйдя из библиотеки на втором этаже, я смотрю на Париж. Те же туристы с восторгом узнают неподалеку Нотр-Дам. Завтра оттуда они будут с той же радостью взирать на Бобур. Так, взбираясь на один памятник за другим, они, возможно, и отыщут нужный вид. В библиотеке, в отделе современного искусства, я пролистал еще несколько изданий, но по сравнению с изголодавшимися по отметкам студентами, которые буквально прилипли к столам, мне явно не хватало энтузиазма. Объективисты прошли сквозь историю живописи, не оставив в ней ни единого следа: ни анекдота, ни малейшей сноски. В конце концов я решил, что их просто не существовало и что картина из хранилища — это розыгрыш какого-нибудь студента Школы изящных искусств, может быть самого Морана. История могла бы разворачиваться так: Моран шесть лет учится своему ремеслу в Школе на набережной Малаке. Чтобы нагнать тумана, он выдумывает себе группу и программу, потом, чтобы произвести впечатление на тех, кто заправляет в этой области, пишет «Опыт», дело идет, он блефует дальше, картину за подписью «Объективисты» покупают. После этого он уезжает в Нью-Йорк, потому что в Париже все мечтают только о Сохо. На двадцать лет он забывает о Франции, но потом возвращается к истокам, в Бургундию, где развлекается автогеном, В конце пути он пишет еще один «Опыт», в память о том времени, когда все еще было впереди. Так могла бы выглядеть жизнь Этьена Морана, художника, беглеца, эмигранта, любителя воспоминаний.
Я поискал также книгу некоего Робера Шемена, бывшего инспектора по художественному творчеству, ныне на пенсии. Я нашел и пробежал по диагонали его «Хроники стихийного поколения», чтобы знать, о чем говорить во время нашей встречи. Он назначил мне свидание у себя дома в половине первого. Он особенно настаивал на пунктуальности, прибавив, что люди, которым нечего делать, опаздывают чаще всего. Чтобы раздобыть его имя, я обратился к Лилиан, которая вот уже несколько недель ни в чем не может мне отказать. Она достала мне полный список инспекторов государственной закупочной комиссии, участвовавших в голосовании в 1964 году. Из двенадцати членов жюри семеро еще трудятся в министерстве, остальные — на пенсии, и мне нужен был кто-то из этих последних, чтобы по возможности избежать прямых соприкосновений с официальными путями. Никто не должен знать, что я копаюсь в национальном достоянии. Мало ли что может случиться? Дельмасу, например, может и не понравиться такая инициатива с моей стороны.
Спускаясь по эскалаторам, я вспоминаю о бардаке, который творился в СМИ в момент открытия Центра Помпиду. За или против? Что это — скандал или начало новой эры в архитектуре? Равнодушных не было. Грузчики с центрального рынка решили для себя этот животрепещущий вопрос, быстренько перебравшись в Ренжи. Я тоже, как и все, поспешил составить свое личное мнение, о котором впоследствии позабыл напрочь.
Одиннадцать двадцать. Шемен живет на улице Сен-Мерри, в двух шагах отсюда. У меня еще есть время поболтаться немного по Музею современного искусства — в первый раз с самого моего приезда в Париж. Выбор таков: или постоянная экспозиция на пятом этаже, или ретроспектива нарративно-фигуративного искусства на антресоли. На первом этаже, за дверью с табличкой «Выставка монтируется» я вижу, как два монтажника со смехом вертят туда-сюда какую-то картину, чтобы определить, где у нее верх, а где низ. Из любопытства я подошел ближе. Это напомнило мне старые добрые времена.
На лестнице, немного поколдовав над своим правым рукавом, я засовываю его поглубже в карман. Все для того, чтобы меня не приняли за того, кто я есть на самом деле, — за однорукого, хотя есть риск, что меня могут принять за того, кем я не являюсь, — за невежу. Немного поздно, но я сообразил, что мое увечье — это наилучшая визитная карточка, особая примета высшего порядка. Не говоря о моей физиономии — на мой взгляд, уже сомнительной, и всем облике старьевщика, потерявшего три четверти своего веса. Все, что может сделать меня незабываемым.