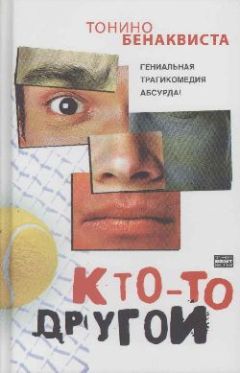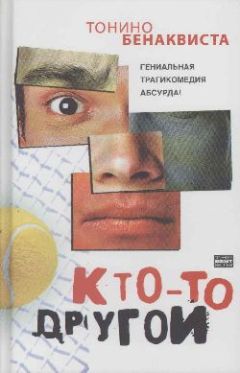Он старается не выказать ни малейшего удивления.
— Это хуже, чем я думал, — произнес он, почти не разжимая губ.
Он встает.
— Вы не думаете, что вам пора уходить?
Думаю. Конечно, я вышел за рамки. Поднимаясь, я засунул свой обрубок обратно в карман. Правда, кое-что меня еще интересует.
— Еще один вопрос, последний. Вы только что убедились, что я несу полную чушь, и тем не менее стали делиться со мной воспоминаниями. Я бы хотел знать, почему.
Он пожаловал меня беззлобным смешком.
— А это совсем просто, мой юный друг. Я стал отвечать вам с известным удовольствием, как только вы сознались, что вам плевать на современное искусство. Ибо, видите ли, что бы вы обо мне ни думали, вам не может быть больше наплевать на него, чем мне. И знаете ли, мне очень приятно иметь возможность признаться в этом.
— Не понимаю.
— Я потратил тридцать лет жизни на обсуждение произведений все более и более пустых, ничтожных… невидимых. Настолько, что они исчезали у меня на глазах. Я совершенно растерялся. Я не знал больше, кого защищать и почему, само желание нанести краску на холст уже выглядело подозрительно, разговоры велись только об идеях. А о чувствах забыли. И в один прекрасный день я решил, что нет ничего захватывающего в наблюдении за искусством, которое стремится прежде всего сотворить свою собственную Историю. В наше время живописцы больше не пишут — они «компонируют», «концептуализируют», они утверждают, что писать больше нельзя, они водружают на постаменты обыкновенные вещи, вопя о конце художественных иерархий, теоретизируя о гибели искусства. Они просто ждут, что что-нибудь произойдет. И я ждал вместе с ними, долго ждал того, кто откроет новый путь, У ваших объективистов, например, несмотря на нелепое название, было что сказать, но они исчезли так же быстро, ка?: и появились. А я потерял терпение, и с тех пор мне плевать. Как вам.
— И вас больше ничего не интересует?
— О, знаете, я совсем не знаю мир и его пейзажи. А это так важно — пейзажи, земля, материя. Я никогда не гулял среди красоты, у меня никогда не было времени, чтобы просто пройтись среди всех этих красок. Или, вернее, я вынужден был проходить мимо. Я не с того начал: с гризайли, а не с хлорофилла.
— Вы жалеете об этом?
— Ну, не очень. Знаете, я гораздо лучше понял Тернера, пролистав фоторепортаж из Венеции. Мне следовало бы побывать там, когда в ногах еще было достаточно силы. Ни одному художнику, даже Ван Гогу, не удалось найти такой пронзительной желтизны, которой окрашены рапсовые поля в Верхнем Провансе, А я и там тоже никогда не был.
Он провожает меня до двери.
— Вот вы всё говорите, а… Я видел в соседней комнате, на стене, картину. Пусть вас больше ничего не интересует, но все же есть на свете несколько квадратных сантиметров живописи, которые все еще стоят того, чтобы на них смотреть.
Усмехнувшись, он открывает дверь и выталкивает меня на лестницу Прежде, чем закрыть дверь, он снова усмехается.
— То, что вы видели, — великолепно. Это портрет моей матери, написанный моим братом. И это бесценное полотно. Но, между нами говоря, он правильно сделал, что на этом и закончил свою карьеру.
* * *
Выйдя на улицу, я сразу помчался к метро, словно время поджимало, и остаток дня провел в архиве Парижской биеннале. Еще одна библиотека по современному искусству, расположенная в одном из укреплений Гран-Пале. Я нашел все, что имело отношение к шестьдесят четвертому году, в том числе подборку прессы о Четырнадцатом Салоне молодой живописи. В одной из статей действительно упоминалось название «Объективисты». Я не смог справиться с нервами, помешавшими мне сосредоточиться на насущном вопросе: украсть документы или скопировать? В полной нерешительности я постоял сначала перед ксероксом, потом перед библиотекаршей. Она едва взглянула на меня и уж точно не заметила, что у меня нет руки. Дождавшись, когда уйдет мой сосед по столу, я сгреб все, что мне могло понадобиться, в урну левого кармана.
В семь вечера я повторил попытку с пишущей машинкой. Такое впечатление, что я качусь назад, мне нужно немыслимое количество времени, чтобы вставить лист параллельно каретке, и, в общем-то, все дело в нервах — это из-за них я трачу впустую столько времени. Мне не хватает терпения.
Отец выбрал этот самый момент, чтобы позвонить и упрекнуть меня в долгом молчании. Я ничего не сказал ему, стараясь как можно меньше лгать. Это толкнуло меня на написание нового письма в надежде поставить наконец точку в этом деле, пока они не начали беспокоиться по-настоящему. Я немного боюсь, что они явятся однажды без предупреждения, а у меня тогда не хватит храбрости, как сегодня утром, потрясать в воздухе увечной рукой. В сущности, этого-то мне и не хватает — четкости подобного жеста. Общий вид, переданный с фотографической точностью. Холодное и беспристрастное видение реальности. Гиперреалистическое полотно.
«Дорогие оба!
Представьте себе часть человеческого тела, которая на самом деле не существует, округлую гладкую оконечность, которую по ошибке можно было бы принять за нечто совершенно естественное. Поместите ее точно на то место, где обычно располагается банальнейшая кисть. Это — моя культя».
Ночь застала меня между легкой дремотой и чуть теплым супом. Но я не мог позволить себе заснуть, не разобравшись окончательно с измятыми бумажками, все еще валявшимися у меня в кармане. Зазвонил телефон, и я решил было не отвечать, уверенный, что это Бриансон взялся за старое.
— Антуан…
— Нико?..
— Уже поздно, я знаю, но я еще в хранилище и у меня есть кое-что для тебя. Что-то крупное, так что прихвати свой поляроид. Ты начинаешь доставать меня своими историями…
То ли из-за ночи, то ли оттого, что я никогда не говорил с Нико после восьми вечера, то ли из-за перспективы оказаться нос к носу с чем-то крупным, но я не сорвался с места так быстро, как ему хотелось бы.
— А до завтра это подождать не может?
— Никоим образом, завтра уже будет поздно, и поторопись, мне пора спать, меня ждет моя крошка, и вообще мне сверхурочные не платят. Да, и возьми с собой вчерашнюю фотографию, она мне понадобится. Ты себе еще сделаешь, когда придешь. Пока.
Я хватаю фотоаппарат, слетаю вниз по ступенькам, ловлю такси у площади Вогезов. Для всего этого правая рука мне не нужна. Но на эти десять минут я смог позабыть, что у меня ее нет.
Он предусмотрительно оставил дверь открытой. Фонарь погашен, я никогда не знал, где он включается, но юпитеры склада скульптуры, там, в глубине, помогают лете ориентироваться. В темноте я спотыкаюсь о ящик и чудом подхватываю на лету какой-то сосуд — то ли произведение искусства, поджидающее своего хозяина, то ли элементарный кувшин для поливки домашних растений. Знать бы, где тут выключатель… Я перешагиваю через рулон оберточной бумаги, валяющийся на полу рядом с рамой, приготовленной к упаковке. У Нико так мало места на складе, что он пакует свои посылки в офисе у Веро. Я прохожу через дворик перед складом скульптуры, где света хоть отбавляй — словно в ожидании визита какого-нибудь важного чиновника. Пахнет старым деревом и пластмассой. Я окликаю Нико по имени. Кругом ночь, это, в сущности, ничего не меняет, но все-таки, добавляет значительности, все вокруг отдает упадничеством, я делаю несколько робких шагов в глубь этой разрушающейся крепости.
— Нико?.. Нико! Ну где ты там? Какого черта!
Каменные лица больше не выглядят скучающими, наоборот, они угрожают тому, кто пришел нарушить их покой. Мертвенно-бледная мадонна пустыми глазами смотрит, как я приближаюсь к ней. «После семи вечера я их не беспокою», — обычно говорит Нико, собираясь домой. И правда, после окончания рабочего дня им надо побыть одним, среди своих. Тут уже нет ни уродства, ни бесполезности, каждый достигает наконец максимальной степени бездействия, словно посетители одним взглядом вынуждали их позировать.
Я вступаю в аллею за пределами светового пятна.
Там, обогнув какую-то деревянную махину, я не сразу понимаю, что стеллаж с бюстами опрокинут наземь. К моим ногам подступает море голов, терракотовые щеки, десятки женщин из позеленевшей бронзы, потолще и потоньше, потрескавшиеся и не очень. И в самом конце этой волны еще одно лицо, еще более безжизненное, чем остальные.
— Нико?
Я закрыл рот ладонью.
Позади себя, совсем близко, я услышал голос.
— Фотографию…
Я обернулся не сразу.
Голос, проломленный висок Нико, выворачивающий душу страх — мне показалось, что я заново переживаю эту секунду, перевернувшую всю мою жизнь.
— Дайте мне фотографию…
Фотографию… Я прекрасно понимаю, что фотографией он сегодня не ограничится. В прошлый раз он забрал мою руку. Настал момент узнать, могу ли по-настоящему рассчитывать на ту, что осталась.