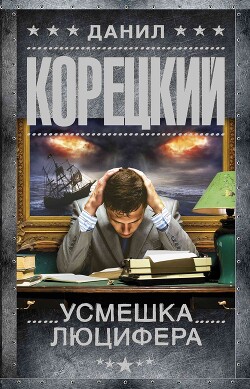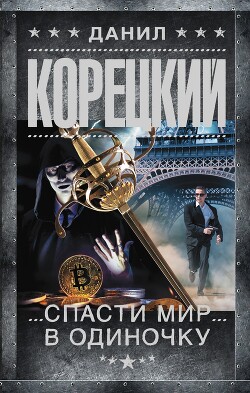— Спасибо, я здоров! Чего и вам желаю!
— То есть ни вашим, ни нашим! Браво!
Афористов картинно зааплодировал, высоко подняв руки. Обалдевший зал замер, переваривая сказанное, помедлил секунду-другую… и вдруг сорвался в овацию — неожиданно бурную, истеричную, даже пугающую своей спонтанностью. Будто здоровенный кусок Дворцовой набережной со всеми постройками и прогуливающимися по ней гражданами ни с того ни с сего рухнул в Неву…
И громом прокатился над этой стихией густой бас Афористова:
— Работник советского вуза, профессор, доктор философских наук товарищ Сивой начисто отрицает категории добра и зла!
— Я убежденный марксист! — выкрикнул Сивой каким-то ломающимся, мальчишеским фальцетом. — Я мыслю категориями классовой борьбы! А не всякими фантиками!
— Фантики, вот как! То есть вам все равно — Альенде или Пиночет, Кастро или Батиста, Ленин или Ницше, истина или ложь?
— При чем тут это?
Сивой растерялся, пригнул голову, словно хотел спрятаться за кафедрой.
Поднялся Вышеградский, тоже посеревший, напуганный, постучал карандашом по графину с водой: «Товарищи, товарищи!..»
— При том, товарищ Сивой, что истина — добро, а ложь — это зло! — пророкотал Афористов.
Кто-то тронул Ивана за плечо, он вздрогнул, оглянулся. Живицкий смотрел на него удивленно, кивнул на Афористова: что тут вообще происходит? Откуда такая поддержка? Иван пожал плечами. Он ничего не понимал. Как будто на окружающую вражескую пехоту вдруг выкатился тяжелый танк. Собственно, так оно и было: Афористов мог считаться танком.
…Его боялись и уважали. Уважали безмерно. Преклонялись и поклонялись. Историк планетарного масштаба с абсолютной интуицией, фантастической памятью, безграничными знаниями, который, казалось, не столько изучает историю, сколько припоминает ее, как собственное детство или юность… Автор ставших уже классическими трудов по Древнему Египту, Палестине и Междуречью…
И так же безмерно его боялись. Трепетали. Афористов был знаменит не только своими трудами и открытиями, но и тем, что добился лишения всех ученых степеней для нескольких известных московских академиков, уличив их в еретическом противоречии постулатам исторического материализма. При этом сам никогда не скрывал своего… прохладного, скажем так, отношения к марксизму как научной дисциплине. Что непостижимым образом сходило ему с рук.
Он зарубил десятки, если не сотни диссертаций. Уволил с формулировкой «за идеологическую незрелость» целый отдел Института истории во главе с заведующим. Ходили слухи, будто именно Афористов, как лицо, приближенное к Сталину, являлся одним из идейных вдохновителей кампании «по борьбе с космополитизмом» — за что позже якобы и поплатился, будучи низвергнут со всех административных постов и сослан в Ленинградский университет…
Афористов — Великий и Ужасный.
Гений и злодей.
Так что реакция зала на его появление объяснима. Масштаб этой личности, ореол ученой славы и скандальности, окружающий ее, просто несовместимы с масштабом проходящего здесь мероприятия. Ах, ну да — когда-то он косвенно вступился за Трофимова в связи с публикацией «Тоннельного метода»… Но вряд ли это было сделано осознанно, с упором на личность Трофимова. Почему? С какой стати? Этого просто не может быть.
— …Вот как раз об истине как категории добра я и хотел поговорить с вами, товарищи в ходе научной дискуссии!
Афористов широким шагом спустился к кафедре, с вежливым «простите» невежливо отодвинул в сторону оторопело собирающего свои бумаги Сивого.
— А истина, товарищи, состоит в том, что перстень, о котором написал наш диссертант, и в самом деле принадлежал историческому Иуде! — объявил он, сверкнув ослепительной улыбкой. — Не библейскому Иуде, подчеркну, поскольку я выступаю здесь не как богослов, а как историк. Именно историческому Иуде Искариоту, уроженцу иудейского города Кириафа, чьи жизненные рамки можно обозначить, не углубляясь сейчас в ненужные подробности, первыми тремя десятками лет нашей эры… «Иудин» перстень — подлинный предмет той эпохи, который молодой ученый Трофимов открыл для мировой науки. Нисколько не сомневаюсь, что этому открытию будут посвящены публикации в ближайших номерах таких авторитетных изданий, как «Nature» и «Science». Однако никто из наших уважаемых оппонентов почему-то даже не обратил внимания на такую, простите, мелочь!
Он наклонился к Сивому — все вдруг с удивлением обнаружили, что второй оппонент — настоящий коротышка, — с издевательской и даже страшной гримасой ухмыльнулся ему прямо в лицо, отчего тот вздрогнул и попятился.
— Среди собравшихся нет специалистов по ювелирному делу, потому я не хочу сейчас обсуждать особенности гравировки и уникальную «чешуйчатую» огранку камня… Которые, впрочем, ясно и однозначно указывают даже не на эпоху, а на конкретного мастера, жившего в Иудее в период прокураторства Понтия Пилата… Но, думаю, для собравшихся куда убедительней будут показания научных приборов. К примеру, газового хроматографа Ленинградского института физики АН СССР, на котором перстень был исследован под руководством профессора Козицына. Согласно его заключению, перстень датируется первым веком нашей эры.
Афористов извлек из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист бумаги, развернул и выставил перед собой в вытянутой руке. Словно голову казненного.
— А почему тогда заключение не упоминается в диссертации Трофимова? — крикнул с места Рынкевич.
Иван вскочил с места, не успев даже понять, что собирается говорить. Совершенно не представляя, откуда Афористову может быть известно о том его давнем походе в Институт физики, не говоря уже о результатах спектрального анализа… Но тут он услышал собственный голос, спокойный, даже въедливый немного, будто записанный на магнитофонную пленку когда-то ранее, в совершенно другой обстановке:
— Очевидно, потому, товарищ Рынкевич, что в данной работе я решал задачи иного плана… Историко-философского, скажем так. Что же касается вопроса о происхождении перстня и судьбы Иуды Искариота, то он заслуживает отдельного исследования…
Это было нарушение регламента — ему следовало ждать заключительного слова. Но в следующий момент он совершенно изумил себя и аудиторию, выдав:
— Возможно, это будет темой моей докторской диссертации.
Между членами Совета пробежал легкий шумок: такое заявление соискателя кандидатской степени, присуждение которой и так под вопросом, рассматривается как беспардонная наглость и увеличивает количество «черных шаров» при голосовании. И зачем он это брякнул?
Трофимов тоже это осознавал и тоже не понимал, зачем он вылез с этой дерзкой репликой. Как будто кто-то произнес вызывающую фразу вместо него!
В последующей дискуссии выступил научный руководитель, предложивший поддержать соискателя, и несколько членов Совета, которые занимали неопределенную позицию: с одной стороны — да, многое диссертантом сделано, но с другой — осталось и немало пробелов, так что каждый пусть голосует по своей оценке и собственной совести… Это был плохой признак. И то, что остальные члены Совета не высказывались, а рисовали что-то в своих блокнотах, возможно, чтобы не встречаться ни с кем глазами, тоже являлось плохим признаком.
Председатель объявил перерыв для тайного голосования и попросил всех, кроме членов Совета, покинуть зал. Публика вышла в коридор. Судя по звучавшим репликам, никто из научной братии не ждал благополучного исхода голосования.
— Прокатят, сто процентов прокатят!
— Зачем он про докторскую сказал? Это же вызов! Все только обозлились…
— Хорошо, если хоть половина проголосует «за»… Надо две трети, но хоть не с «сухим» счетом…
— А если ни одного «белого» шара не окажется? Тогда научному руководителю от позора не отмыться…
Трофимов нервно ходил взад-вперед, как сдавший партию гроссмейстер. При его приближении разговоры замолкали. Как-то боком подошел озабоченный Живицкий:
— И черт тебя дернул ляпнуть про докторскую! — процедил он. Потом взял под локоть: — Успокойся, на этом жизнь не заканчивается. В крайнем случае через год выйдешь на повторную защиту…