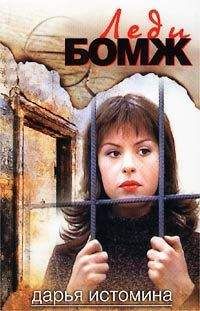Господи, чего ее сюда занесло?! Или все-таки их? И она была не одна? На миг мне показалось, что из ночи, из глубины леса на меня кто-то смотрит, и я, вздрогнув, погасила зажигалку.
Но потом решила, что мне это просто кажется. Вообще-то где-то когда-то я читала, что ни одна из женщин, решившихся свести счеты с жизненкой, не стреляет сама себе в голову. Куда угодно, только так, чтобы не попортить лицо. Потому что даже после всего каждая женщина хочет выглядеть красивой. Во всяком случае, не обезображенной. Если это она сама себя — значит, где-то должен валяться пистолет, револьвер, в общем, нечто огнестрельное. Может быть, под нею?
Но тронуть ее сызнова я не решилась. Она так и лежала на боку, скорчившись, почти под машиной, и нелепо выкинув руку в перчатке.
При отсвете фар я разглядела только пудреницу, такую золотую плоскую коробочку, которая валялась возле сумки. Я открыла ее. В пудренице была не пудра, а белый, как крахмал, порошок.
Как-то Козин, дурачась, угощал нас в педагогических целях на фирме кокошкой. Так, для расширения кругозора. Теперь я поняла, почему ноздри у нее были в белом. Это был кокаин.
Зачем же она еще и водяры добавляла? Чтобы оглушить себя до конца? Чтобы страшно не было? Или ее кто-то угощал?
Я осторожно положила пудреницу в траву, там, откуда взяла. Лучше ни к чему всерьез не прикасаться, тем более ничего не прихватить из чужого. Себе дороже. Так что я тщательно протерла коробочку полой халата, чтобы пальчиков не оставить.
Но любопытство в смеси с перепугом ожгло меня, как-никак я тоже Евина дочка. Которую, как всем известно, любопытство и сгубило. За что она и погорела в своем раю. Сагитировало ее куснуть яблочко небезызвестное пресмыкающееся.
Так что, поколебавшись, я все-таки сунула нос в сумку. В сумке была обычная хурда-мурда: скомканный платочек, какие-то ключи на брелках, помада, тяжелая зажигалка, початая пачка каких-то не известных мне пахучих коричневых сигарок, баллончик с дезодорантом и множество разнокалиберных визитных карточек, будто она швыряла их в сумку, не читая. Еще был мягкий бумажничек из змеиной кожи, но никаких документов в нем не было, только кредитная карточка «Мастеркард», приличная пачечка новеньких гринов в стольниках, пара тоже новеньких рублевых пятисоток.
Я стала перебирать визитки, чтобы хотя бы по ним определить, кто ею интересовался и чем она могла бы при жизни заниматься, но тут расслышала мотанный настойчивый писк. Пищало в машине.
Я торопливо затолкала все сызнова в сумку и заглянула в салон. Приемник мешал вслушиваться своим треском, и я его выключила. Мобильник валялся на полу, под рулем, такая плоская коробочка с коротким штырьком антенны.
Я долго колебалась, глядя на него и не решаясь взять в руки. Ответить — означало засветиться. Но он все зуммерил и будто умолял: ответь!
Я подняла его, разобралась с кнопками и прижала к уху. Кто-то там, мне казалось — на краю света, тяжело и настороженно дышал. Я кашлянула.
— О, черт! Наконец-то! — облегченно произнес сердитый низкий мужской голос. С такой застарелой хрипотцой, которая бывает только у заядлых курильщиков. — Куда тебя понесло? Охрана тебя потеряла! Ты где? Ну, что ты молчишь?! Я тебя прошу только об одном — не дури! Все будет хорошо. Ну?! Ты меня слышишь?
— Слышу… — машинально ляпнула я. Он молчал долго и потом уже совершенно другим тоном, твердым и ледяным, потребовал:
— Кто со мной говорит?
Я швырнула мобильник на сиденье, в нем еще что-то бубнило, но я уже неслась к церквухе.
Нет, к чертям все это! И эту ухоженную упокойницу, которой уже ничем не помочь, и ее роскошный дамский будуар на колесах, и всех этих, упакованных по высшему классу, с их пачками «гринов», охранами и мобильниками! Кажется, я прикоснулась к чему-то такому, к чему при моей бомжовости и бесправной задолбанности прикасаться просто опасно. Если, конечно, еще и вспомнить то, что я натворила за прошлые сутки.
В храме было темно, хоть глаз выколи, луна ушла из проема наверху, и я лихорадочно собиралась, спотыкаясь и нашаривая вслепую барахлишко. Скинула зюнькин халат, надевала одежду прямо на непросохший лифчик и трусики, что-то сыпалось из пакета, куда я затолкала какие-то невскрытые банки, потом куда-то запропастились туфли, вернее, одна из них, и я, став на четвереньки, нащупывала ее под топчаном. И тут — началось!
Не думаю, что этих типов навел на нашу «трахплощадку» тот голос, что я слышала по мобильнику. Наверное, охранники вычислили и нащупали беглянку самостоятельно. На острова через гати было несколько свороток, и, может быть, они шарили тут не первый час. Но до этого я додумалась потом.
А тогда просто обомлела, услышав, как в лесу рядом с церквухой взревел мощно мотор, послышался треск валежин под колесами и в щели дверей, выходивших на поляну, хлестанул ослепительный, почти прожекторный свет.
Я доползла до дверного проема, прильнула глазом к щели между досок. На поляну выруливал здоровенный, как черный короб, внедорожник с наворотами, в никелевой решетке-"кенгурятнике" на носу торчали изломанные ветки кустарника, двойные сверхмощные фары кромсали темноту, а с кабины светили еще четыре дополнительных фонаря.
В их свете иномарка стала не красной, а белой.
Джип еще не успел остановиться, как из него посыпались какие-то накачанные амбалы, четверо, в общем-то такие аккуратненькие молодые мужики в странной форме — светло-серой, в высоких шнурованных ботинках и беретках. Но все, как один, при галстучках. На груди их курток были какие-то эмблемки, однако я их не разглядела. Но вот коротенькие черные автоматы я разглядела преотлично.
У старшего автомата не было, но поверх куртки был напялен белый бронежилет.
Он что-то коротко приказал остальным, и они остались стоять у джипа, а он пошел к иномарке, приглядываясь, обошел ее, посветил фонариком и присел на корточки над женщиной.
Потом он сплюнул и тоскливо выматерился. Потом выпрямился и свистом подозвал остальных. Они смотрели растерянно, и было понятно, что увиденное их глушануло всерьез. Они о чем-то почти шепотом начали переговариваться и озираться.
Дальнейшего я дожидаться не стала. Сунула за пазуху кофточки пакет, он съехал к пупку, и я стала похожа на беременную. Плюнув на все, я оставила недопитую «фанту», недоеденные оливки с анчоусами и все остальное, не дыша, сняла заслон с заднего окна и протиснула себя в него.
Плюхнулась в густую, по пояс, крапиву, поползла, как черепаха, через нее, обжигаясь. И минут через пять, спустившись к берегу протоки, лупила что есть духу прочь, то и дело соскальзывая с мокрого от росы откоса в камыши, и чувствовала, что утопаю ногами в донном иле и грязи.
Юбка промокла до пупа и противно липла, потом я потеряла левую туфлю. Искать не стала, сняла вторую и зафуговала ее в воду. И дальше шлепала босая, стиснув зубы и постанывая, когда острые лезвия осоки полосовали мои разнесчастные ходули. Никто за мной не гнался, но остановиться я не могла.
Отдышалась я, только когда вышла к гати на матерый берег и под ногами захлюпали, разъезжаясь, плохо уложенные бревна. Добрела до суши, хлопнулась бессильно под дубом, хотела закурить, вытащив сигареты из-за пазухи. Но руки тряслись, как у припадочной, и сигаретки ломались.
Далеко предрассветно орали петухи, и пахло печным дымом. Где-то там нормальные люди жили нормальной жизнью. И какая-нибудь молодка моих лет уже жаловалась мужу на очередные проблемы, а он с ласковой пренебрежительностью гудел: «Не бери в голову… Это — мои дела!» А мне и пожалиться некому. Хотя и очень хочется. Ну, просто до невыносимой тоски. Чтобы был хоть кто-то, который хотя бы на миг взял на себя все мои идиотские заботы и думы. Кто сказал бы: «Не боись, Лизаветка! Прорвемся!» Но увы мне! Нету такого…
И похоже, я преувеличила собственные возможности. Никогда не думала, что могу так испугаться. Этой ночью смерть посмотрела своими заледенелыми агатами в мои глаза. И, слюняво оскалившись, спросила: «Ты что, всерьез хочешь, чтобы я долбанула всех твоих обидчиков этаким манером?»
Что-то случилось со мной этой ночью Я еще не знала точно, что именно, но, похоже, впервые всерьез разглядела ту грань, которую переступать нельзя никому. Потому что возврата не будет.
Потому что, в общем, жизнь прекрасна и удивительна. Просто дышать, есть, пить, плавать, ходить — это ведь тоже счастье! Так, может быть, стоит плюнуть на все мои душевные и телесные раны, принять все как неизбежное, что уже не изменить? Залечить болячки где-нибудь подальше от этих мест, и, покуда достаточно молодая, заняться решением главного женского вопроса: выделить и захомутать, словом, найти если и неполную половинку, любимую и единственную, то хотя бы обычного нормального мужика, чтобы не особенно клюкал, не распускал рук и имел пару извилин под черепком?
Ну, не торопиться, конечно, приступить к делу продуманно и четко. Но чтобы в конце концов было самое главное — горячее тельце ребеночка на твоих ладонях, жадный его ротик на твоем сочащемся молоком соске. Колонистки на острове рассказывали, что ничего сладостнее этого прикосновения нету. Когда впервые кормишь, понимаешь: это твое творение, частичка твоя, кровиночка, отныне и на веки веков.