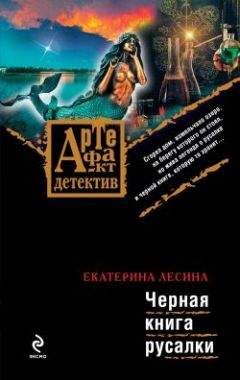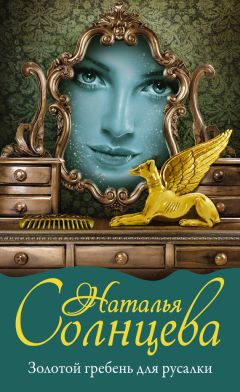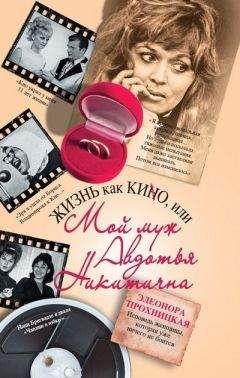Ознакомительная версия.
– Ой, ну да ладно тебе...
– Не ладно. Если тут и вправду девять человек погибло, то это серьезно.
Ксюха скривила рожицу.
– Послушай, никакой русалки нет, и... Тогда чего дергаться? Я в этой луже плескаться не собираюсь, ты тоже, дома с нами Вадик, он, конечно, тупой как шкаф, но сильный. Так что все нормалек. Мы просто немножко заглянем в историю. Теть Оль, ну ты ж сама говорила, что полезно интересоваться историей родного края...
– Этот не родной.
– Тетя Оля, ну тетенька, ну подумай сама, что тут такого? Да я сама понимаю, что все это сказки и вообще... ну тоскливо же! Ну скажешь ты Вадику, он донесет бабке, бабка велит съезжать, запихнет в какой другой дом, будем тогда там от безделья вешаться.
В чем-то Ксюха права. Нет, Ольга не собиралась поддаваться на шантаж, она совершенно точно знала, как необходимо поступить: рассказать о статье Вадику, пусть он разбирается, сколько в ней вымысла, а сколько правды или, что гораздо актуальнее, насколько опасно находиться здесь. И конечно, весьма вероятен исход с переездом...
– Неужели тебе не интересно? – продолжала Ксюха. – Ни капельки не интересно? Мы ведь осторожно... и вообще, мы пока ничего не делали и делать не будем. Пашка в архиве посмотрит...
– Ксюша!
– Тетя Олечка!
– Звони, – разрешила Ольга. В конце концов, донести про статью она в любой момент сможет. И вообще, некрасиво ябедничать... да, именно в этом дело: ябедничать некрасиво.
– Давно это началось. Мне моя свекровь рассказывала, а той – ее бабка. – Анна Ефимовна говорила, глядя прямо в глаза, и Шукшину взгляд ее, тяжелый, подозрительный, совершенно не нравился. – Тут-то как, я ж сама с-под Тулы родом, на выставке с Витькою познакомились, сельскохозяйственной. Ну и как-то оно быстро вышло, поженились, переехала... да не об том говорю. В общем, моя-то свекровушка поначалу волком глядела, а я взяла и забрюхатела.
На руках Анны Ефимовны морщины и пигментные пятна, под короткими, обломанными ногтями – черные ниточки забившейся земли, кожа на шее отвисает зобом, который вздрагивает, бежит мелкими складками от движения челюсти.
Господи, да разве ж ему интересно слушать про ее жизнь? У Шукшина жизнь своя, отпуск вот-вот накроется, жена к матери уйдет, а мать ее, теща дражайшая, потом долго, до самого Нового года, вспоминать будет и про юг, и про ремонт, и про другие, еще не совершенные грехи.
– Вот чего странно-то... Вишь оно-то понятно, две хозяйки в доме не уживутся, да и она женщина вспыльчивая была, и я с характером. А тут она не то что взъелась, прямо-таки наизнанку вывернулась, уговаривать стала, дескать, разведись, домой езжай... куда мне домой-то да с пузом? Ну я Витьке пожалилась, когда совсем уж достала, он в крик. Она тож. Тогда-то и рассказала про водяницу, что в озере живет. Про то, что, как рожу я мальчика, – а по всем приметам-то мальчик выходил, – заберет она Витеньку за грехи отцовские в наказание...
– И вы поверили? – Антон Антоныч зевнул, рот рукою прикрывши.
– Нет, конечно. Я ж комсомолка, идейная, в партию собиралась, а какая партия, когда в чертовщину всякую веришь? Поговорили мы тогда по душам, сказала я ей и про заблужденья, и про то, что негоже современному человеку во всякие поповы байки верить, и... и про много что сказала, – махнула рукой Анна Ефимовна. – А она-то... она-то только глядела да вздыхала, на глупость мою ничем не ответила, попросила только. «Уезжай, – говорит, – нечего тебе тут, Аннушка, жить, не сама спасешься, так внука хоть моего оборонишь».
– И что дальше?
– Девку родила я! Потом еще двух. А уже потом, когда свекровь схоронили, в том-то годе и мальчик появился. И ведь получилось точно, как она предсказывала. Витенька меня из роддома забрал – и на работу. Страда была, а он – комбайнер знатный. И кололо-то в сердце, царапало. Так с малым-то дитем за мужем не побегаешь! Вот и вышло, что вечером ко мне председатель самолично заявился, дескать, пропал твой супружник, не явится – прогул поставим. А я, как напередки уже знала, говорю – к озеру идите, у озера ищите. Нашли. На третьи сутки нашли. И ведь трезвехонек был, он у меня на работе ни-ни...
Грустная история, конечно, зато теперь понятно, чего бабка пришла – не поверила, что муженек ее рождение наследника отметил и по пьяни утоп, выдумала себе русалку.
– Схоронили его быстро, а ко мне на поминках бабка одна подошла, свекровина подружка сердешная, ну и шепотом так: покрести, Аннушка, сыночка своего, некрещеных-то она в младенчестве забирает. И адресок подсказала. Снова сердцем-то чувствовала – надо крестить, но тянула. День тянула, другой тянула... а на третий просыпаюсь оттого, что поет кто-то. Ласково так, хорошо, прислушалась – и не просто песня, а колыбельная. Девки-то мои вповалку, а Сереженька, сыночек, не спит, но лежит тихонько, улыбается. Я как встала, крикнула что-то с перепугу, и все, исчезла песня.
– И вы покрестили сына?
– Бегьмя побежала, чтоб только успеть. И сама покрестилась, хоть и стыдно было.
– Ну а потом что?
– А ничего, вырос Сереженька, хорошим парнем стал, красивым, девки на него заглядывались, а он Аленку приглядел, жениться вздумал...
– Но его забрала русалка, – «догадался» Антон Антоныч, уповая на то, что истории этой конец пришел.
– Не успела. В армию пошел. А там – Афганистан. Был у меня сынок, и нет. – Анна Ефимовна шумно выдохнула, заморгала часто, сдерживая слезы, и Шукшину стало очень стыдно. Все ж таки тяжкая жизнь выдалась у старухи: и мужа похоронила, и сына, немудрено, что про русалку придумала.
– Ты вот думаешь, что я с горя сбрендила? А ты газетки полистай, поглянь, отчего в Погарье мужики мрут? На статистику-то вашу, и на фамилии, небось Башанины хоть пятый десяток живут, и пьют не просыхая, и детей у них, и внуков полный выводок, бегают бесприглядные, но ни один не утоп. Потому как не местные, пришлые. Не нужны ей пришлые, справедливая она, хоть и нежить...
Ух, все ж таки утомила бабка сказками своими.
– Про нее и в газете писали недавно, что с десяток утопила, в нашей-то луже. Аккурат после Майкиной пропажи. Поищи, поищи, поспрошай людей, тогда, глядишь, и перестанешь нос задирать. А то все вы больно умные, и то знаете, и это ...
Анна Ефимовна поднялась и, погрозив пальцем, сказала напоследок:
– Сам в церковь сходи, помолись, а то мало ли, приберет еще.
Эта угроза потом долго еще крутилась в голове Антона Антоныча, обрастая домыслами и теориями. Стыдно сказать, действие возымела. Нет, он не собрался посетить церковь – отродясь числил себя неверующим, – но статистику по району затребовал.
Вправду тонули много. Но ведь объяснимо же, все более чем объяснимо: делать в деревнях нечего, народец спивается и топится, кто по дури, кто по избытку хмеля, кто...
А ведь свидетельницы тоже указывали, будто у озера кто-то пел. Нет, ерунда, так скоро он сам в воду полезет, русалок искать.
Мысль эта Антону Антонычу Шукшину совершенно не понравилась.
А с болезнью вот оно как вышло. Сначала зарядили дожди. Вода собиралась во дворе и в глубоких колеях дороги, вытягиваясь черными лужицами, поверх которых плавали желтые да красные листы. Вода затекала под угол дома, подмачивая подпол, и Фимка, ругаясь на чем свет, торопливо мазала дыры глиной. Вода просачивалась в хлев – наново перекладывали крышу. Вода была повсюду, и даже последние, прибитые паршой яблоки скорее сгнивали, нежели высыхали, разложенные на печи.
В доме, правда, тепло было, уютно. Хрюкали поросята, пищали гусята да курята, высиженные не ко времени и прибранные Фимкой в избу для сохранности, мурлыкал Черныш, тянула грустную песню Нюрка. Тянулось время пряжей в ловких пальцах, скользило утком меж натянутых кросен, таяло закатами, будило рассветами, катилось к зиме.
Вот и снегом сыпануло, распустило косы метелями, раскидало лед да сковало и пруд, и озеро, каковое Микитка нет-нет да во снах видел.
А перед самым Рождеством заболел Егорка. Сначала кашлять начал, долго, глухо, скатываясь в дрожащий клубок от боли, снедавшей его изнутри, да так клубком и засыпая. После, очнувшись, слабо постанывал, сползал с печи, чтоб киселя похлебать или желтого, жирного куриного супу, который Фимка специательно для него готовила. И снова кашлял, засыпал, бледнел, худел. По всему видно было – не жилец.
Приходил сначала еврей, прописавший жиром медвежьим грудину мазать, после монашек один, велевший в воде студеной закаливать, да только оба они говорили неуверенно да, перешептываясь, все на Микитку поглядывали.
А он что? Он же к Егоркиной болячке руки не прикладывал, наоборот, с самого первого дня пытался остановить, шептал, угрожал, даже грел руками, силясь растопить тугой ледяной комок в слабом Егоркином тельце – не выходило.
Силен был Микитка, да бессилен.
– Из-за него все! – шептала Фимка, крестясь перед иконою. – Сглазил! Свел в могилу!
Ознакомительная версия.