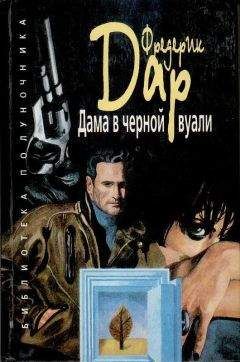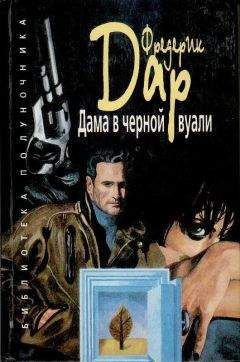Монастырь возвышался над нами на уступах горы Фоскаос. Он был сложен из камней, сверкавших на солнце тысячами мелких кварцевых граней. По форме он напоминал огромный, хорошо заполненный лифчик. Два его собора, подобные двум мощным грудям, увенчивались каждый своего рода сосками, великолепно завершавшими иллюзию.
— Нет ли здесь фуникулера, чтобы вскарабкаться вверх? — жалобно спросил Берюрьер. — Могли бы повесить, Божьи люди, тем более имеют право на подъемник, что они приближаются к Господу, не правда ли?
Какой-то парень, выряженный наподобие аркадского пастуха, обратился к нам. Конечно, болтал он по-гречески, но я уловил, чего он хочет, потому что мое ухо уже начало привыкать, а он еще помогал себе объясняться жестами. Он вел на поводу трех ослов и показывал нам на них. Он поочередно тыкал то в Берю, то в одного из ослов. Этот достойный человек давал напрокат ослов, осуществляя таким образом связь между портом и монастырем. Но Берю углядел в его жестах оскорбительный намек. Не успел я вмешаться, как он влепил бедняге такую оплеуху, что тот шлепнулся задницей в пыль посреди своих ослов, которые стояли над ним и дышали, как в Вифлеемской пещере.
— Ты что, псих? — возмутился я.
— Не выношу, когда какая-нибудь греческая свинья в публичном месте выставляет меня ослом, — прорычал он, — Он по крайней мере должен иметь уважение к моему священническому костюму, ведь я персонифицирую саму религию!
— Но он просто дает внаем ослов, чтобы подняться к монастырю!
Жирный потеребил пряди своей бороды.
— Ты уверен?
— Конечно, вот он, твой фуникулер, балда!
— Неудобно как-то получилось, — вздохнул отец Берюрьер, протягивая своей жертве руку, чтобы помочь подняться, — Извини меня, старина, но я подумал о недоброжелательном намеке.
Говоря это, он приблизился к ослу, которого счел самым крепким, и уселся на него, как на мотоцикл.
— Но, вперед! — сказал он.
Осел не шевельнулся.
Главный начальник общественного транспорта Адамос-Сити заехал сзади этого средства передвижения и огрел его кнутом.
В ответ осел так взбрыкнул, что господин Берюрьер грохнулся оземь.
Хозяин животных протянул Берю свой хлыст, но тот отказался.
— Оставьте мне управление, у меня своя техника.
Он засучил свою сутану, изучил содержимое карманов бермуд (что ошеломило адамосца) и вытащил оттуда портсигар и зажигалку. Зажег сигару, сделал несколько затяжек, чтобы она разгорелась, и взгромоздился на своего ишака задом наперед. Схватив того за хвост, он его приподнял и решительно сунул зажженный конец в задний проход животного, объявив при этом:
— Пассажиров просят пристегнуть привязные ремни!
Он не успел закончить фразы. Осел начал издавать страшные крики и пустился во всю прыть.
Часом позже мы нашли Жирного перед воротами монастыря. Он укрылся под сливой и потирал себе хребет, в то время как осел требовательно драл глотку, с очевидностью проклиная его.
Мы позвонили в тяжелую дверь монастыря. Очень далеко, в глубине строения, раздался звон колокольчика. Это был единственный звук, который дошел до нас. Всюду царили мир и тишина, спокойствие и отдых. Все было медитация и немая молитва. Сама природа казалась погруженной в благочестие.
— Отныне, — прошептал я, — играем в молчанку, да, Жирный? И запомни, здесь крестятся наоборот.
Послышался лязг засова, открылся ставень, и мы заметили чей-то глаз и край бороды. Вновь раздался скрежет засова, за ним — более громкий — это открывалась большая дверь. Перед нами был старый священник, убеленный сединами, с серыми морщинками, он пахнул чесноком и застарелой грязью. Сутана его была изношенной, потертой, местами залатанной, а окруженные красным глаза слезились.
Он воззрился на нас, потом прочертил в воздухе крестное знамение. Я ответил тем же. Берю, заразившись, исполнил его, в свою очередь.
— Если они все время так общаются, — прошептал он, — то им тут здорово живется...
Я дал ему пинка ногой, чтобы он заткнулся. Старый священник вынул из кармана своей сутаны влажную губку и посторонился, чтобы дать нам пройти. Мы проникли в довольно обширный сад, полный лавров и самшита. Уголок виргилиевского спокойствия. Голубки прыгали с ветки на ветку. Источник журчал в водоеме из белого мрамора. Священник провел нас к приемным службам[13].
Мы вошли в длинный прохладный коридор с мощными романскими сводами, и священник впустил нас в комнату, меблированную одним только бюро, на которое была водружена огромная книга регистрации в черной коже. Чернильница, перо. Он окунул перо в чернильницу и протянул мне. Со страхом я изучил предшествующие имена, все они были записаны по-гречески.
Как ни в чем не бывало я нащупал в кармане коробок спичек, вытащил и срисовал с него фамилию фабриканта. Затем я передал перо Берю, подмигнув ему краешком глаза, чтобы этот жирный олух не вздумал указать свое настоящее имя. Я, конечно, недооценил мудрость Жиртреста. Он прекрасно видел, что я писал греческие буквы. Благородным жестом он взял перо, вновь обмакнул его в чернильницу, повертел ее мгновение перед тем, как оставить свой росчерк, как это делают неграмотные, что привело к тому, что он посадил серию клякс на краю регистра. Наконец он медленно, старательно написал греческое слово и положил перо. Его широкий болтающийся рукав опрокинул чернильницу на конторку. К счастью, они здесь все дали обет молчания, иначе старый поп прочитал бы ему ту молитву, которую читают над агонизирующим, будьте уверены. Мы уловили его чувства по налившимся кровью глазам, открывавшим широкий обзор его внутреннего мира!
Пока он вытирал следы несчастья, я увлек Жирного в коридор.
— Чего ты там понаписал, приятель? — спросил я его с большим беспокойством.
— К счастью, я вспомнил, как пишется слово, красующееся в холле моего отеля.
— И какое же это слово?
— Афродита, — поведал мне отец Берю.
Глава XIII, в которой мы играем в «вытяни репку»
Кто не видал двух сотен попов, собравшихся в одной церкви, тот ничего не видал. Это надо бы отснять на черно-белую пленку, поскольку цвет здесь ничего не добавит.
Погруженный в молитву, я внимательно вглядывался в это море попов. Как их различать с этими бородами?
Наконец главный поп затрещал трещоткой, и ее резкий сухой звук долго дрожал под сводами капеллы. Все поднялись, выстроились в ряд и отправились в столовую, к вящему удовольствию Берю.
Еще перекрестились перед тарелками — вместо аперитива — и уселись. Жратва была жидковата: салат из помидоров, кабачок в масле, персики. Жирный был уязвлен в самое сердце. Он хмурил брови все более и более зловеще.
— А баранья нога? — выдохнул он.
— Сегодня пятница, — быстро возразил я, — это будет завтра!
— В ожидании я сдохну с голоду!
Несколько суровых лиц обернулись в нашу сторону. Если мы будем продолжать в том же духе, нас ждет провал.
Поэтому я дал ему хорошего пинка ботинком в ляжку. От неожиданности он вскрикнул:
— О черт!
Сто девяносто восемь бород повернулись к Его Округлости. Царила зловещая тишина. Я догадывался, что кое-что должно произойти. В самом деле, огромный рыжий поп приблизился к Жирному, вооруженный длинной тростью. Он подал Берю знак покинуть стол, затем, когда мой приятель послушался, приказал ему встать на колени. Александр-Бенуа был чертовски бледен под своей фальшивой бородой. Я следовал за ним растерянным взглядом. Тогда, совсем как святая Бландина, он принял мученичество и стал на колени. Трость свистнула в воздухе! Острый щелчок — она упала на спину моего товарища.
Я закрыл глаза, как закрывают их, когда ваш «боинг» пикирует прямо на вершину горы Танатос. Я прекрасно знал, что Берюрьер ни при каких обстоятельствах, при всей важности ставки, не позволит бичевать себя, не реагируя. Берю не бьют тростью. О нет!
Еще три раза палка подымалась и обрушивалась. Я приоткрыл веки. Мой доблестный друг не шевелился, только взгляд его наливался кровью. Рыжий поп сунул свое орудие в сутану и удалился. Тогда Берю-мученик, Берю-блаженный, Берю-самоотверженный, готовый к будущей канонизации, Берю поднял правую руку и осенил удалявшегося своего мучителя крестным знамением (он даже подумал о том, что это надо делать наизнанку!). Это было прекрасно, величественно, благородно, по-христиански, это очищает, просветляет, облагораживает.
* * *
Тихий день. Мы совершенно расслабились у этих бородатых с горы Фоскаос. Немые молитвы... Потом прогулка по кругу в саду, скрещенные руки, опущенные головы... Потом снова столовая. Жратва еще более плачевная, чем в полдень, поскольку нам подали за все про все по три оливки на брата. Берю проглотил их, как пилюли.
После скромной трапезы мы отправляемся в дортуар. Это большое помещение, занавесями разделенное на закрытые боксы. Мы распределены по принципу четверо «монахов» на один бокс. К счастью, мы с Жирным — на соседних кроватях. Мы-таки ложимся спать. Но вскоре обет молчания нарушается громким храпом. Как понимаете, эти ребята наверстывают отобранное у них обыкновение говорить как могут.