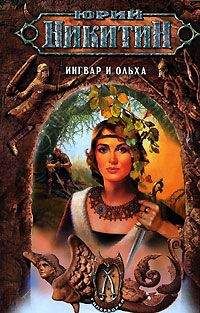Курилов отвернулся и выпил еще водки.
– Что с этим?
– Потерял сознание.
– От страха?
– Да.
Я перегнулась вперед, перехватив бутылку у Курилова, отхлебнула изрядный глоток и добавила:
– А тут потеряешь сознание, когда вопли за стеной, как из фильмов ужасов, а потом часы-ходики начинают хрипеть, словно у них есть глотка… а вот водка твоя, кажется, помогает.
– Давай еще, – сказал Курилов и, вынув из шкафа три бокала, разлил по ним остаток водки, синхронно доставая из сумки вторую бутылку и разнообразную закуску. – Ну че ты стоишь, Женька… тормоши этого… сэра Генри Баскервиля.
– Где тут рассол?
Вопрос повис в воздухе вместе с Куриловым, который, без особого труда вскрыв докукинский погреб, вцепился одной рукой в перекладину лестницы и болтал обеими ногами, не находя под ними опоры.
– Костя, хватит дурковать, – проговорила я, ощупывая гудящую голову. – Погреб глубокий. Лезь по лестнице, не строй из себя Маугли на лиане.
Курилов буркнул что-то нечленораздельное, и в этот момент появился Докукин, в трусах в цветочек, в мятой желтой майке и в правом носке. Он не столько шел, сколько тащился, приволакивая ноги и придерживаясь за стены, его то и дело заносило в стороны, по лицу одна за другой мелькали разнообразнейшие гримасы, обнаруживавшие неслыханное богатство мимики Николая Николаевича и имевшие общее происхождение, – неслыханный похмельный синдром, терзающий тщедушный организм непьющего Докукина.
– Ч-чаво это мы так вч… вчера? – с трудом проговорил он. – Ой, как хреново… это как-нибудь можно… чтобы не было… в-в-в…
– Опохмелиться, что ли? – отозвалась я. – Все вчера выпили, а Курилов теперь ищет рассол. Он, рассол то есть, хорошо пойдет, если что…
Фраза осталась незаконченной, потому что из погреба показалась всклокоченная голова Кости. Он ухмыльнулся и выставил на край погреба здоровенную, вероятно, десятилитровую банку с какой-то мутной желтоватой жидкостью, а потом дослал к ней трехлитровую банку огурцов.
– В-вот, – выдохнул он и одним упругим движением вспрыгнул на пол.
– Что это? – спросила я.
– Это? Огурцы с этим… с рассолом.
– Нет, я не об этом. Во-он тот чудо-резервуар.
– Тот? Я так думаю, что это самогон.
При слове «самогон» Докукин вздрогнул, схватился за горло и выбежал из дома, и со двора послышались характерные звуки, что обычно издает человек, которого интенсивно тошнит.
Курилов пожал плечами и, открыв банку огурцов прямо зубами, начал жадно пить рассол. Потом заел огурцом и с живостью принялся открывать самогон.
– Э-э, Костенька, – остановила я его, – ты чего это делаешь?
– Как – чего? Похмеляться буду, – пробурчал он. – Нельзя же так жить, в самом деле. А ты не будешь, что ли? Потом еще пива по пути перехватим и совсем поправимся.
– Не пойдет, – сказала я. – Хотя в принципе, если ты хочешь остаться погостить у Докукина, то пожалуйста.
– Погостить? – Он аж выпустил из рук самогон, отчего тот свалился обратно в погреб и с грохотом разбился. В нос шибанула струя жуткого сивушного зловония.
Курилов втянул ее ноздрями и едва не последовал на двор вслед за Докукиным.
– Д-да, ты права, – протянул он. – Это пить нельзя. Ладно… пойдем собираться.
– Погоди, – остановила его я, потому что он повернулся ко мне правым боком, и я ясно увидела на его шее, плече и предплечье четкие следы нескольких укусов. – Эт-та еще что такое?
Он опустил глаза и окинул подозрительные следы на своей коже коротким взглядом. Его лицо приобрело лукавое, откровенно насмешливое выражение.
– А-а, это? Это кто-то из нас двоих творил пьяные безобразия, включающие грязные домогательства и тотальную моральную нечистоплотность.
И, не дав мне сказать ни слова в ответ на эту возмутительную тираду, он развернулся и пошел в дом.
* * *
Докукина уложили на заднее сиденье «Ауди», сочтя, что оставлять его в Заречном одного по меньшей мере неблагоразумно, и поехали прочь из этого жуткого поселка, едва не сведшего нас с ума в эту невероятную, феерическую и необъяснимую ночь.
– Если бы кто приехал сегодня часика эдак в два ночи… бери нас тепленькими – не хочу, – сказал Курилов.
– Да уж, перепились с испугу, как свиньи, – поддержала я. – Хотя неизвестно, было бы нам лучше, если бы ничего не пили.
– А вот теперь нам нужно очень серьезно поговорить, Женечка, – проговорил Костя. – Первоначально я подумал, что этот твой Ханыкин…
– Докукин.
– …что этот твой Докукин – просто психопат. Инфантильный болван, заработавшийся в своем институте до маразма и глюков. Но теперь… теперь я думаю, что во многом он говорил правду. А сейчас, прежде чем мы будем думать, что со всем этим делать… а я этого не оставлю, потому как меня тут вчера ночью усуслило так, что в жизни ничего подобного не было… так вот, перед этим я должен показать тебе кое-что. Если, конечно, я не совсем выжил из ума. Смотри, – он приоткрыл окно, и свежий волжский ветер весело ворвался в салон машины, – смотри, вон оно, затопленное кладбище. Вот вчера я туда случайно заехал, когда искал дом этого самого… Макакина.
– Так это там ты вчера стрелял? Я так и думала… но не хотела верить.
– Да. Вон там.
Мы вышли из машины и направились к небольшой обветшалой часовенке, на которую Курилов смотрел с каким-то досадным недоумением.
– Это что… вот этот сарайчик и есть вчерашняя… вчерашняя часовня? – пробормотал он и, ускорив шаг, оторвался от меня метров на пять: я отстала, потому как то и дело проваливалась в лужицы, сильно тормозившие ход, но, как ни странно, не доставлявшие ни малейшего дискомфорта.
И вдруг Курилов остановился, словно натолкнулся на невидимую стену.
– Чер-р-рт! – сдавленно процедил он сквозь зубы.
– Что там, Костя? – спросила я, чувствуя, как упруго перехватывает дыхание.
Он не ответил.
Я подошла и выглянула из-за его плеча.
На земле лежала собака. Голова ее была залита кровью, передняя лапа, если судить по тому, как неестественно она была подломлена, – перебита.
Но все дело в том, какая именно это была собака.
Это была обычная дворняжка, вероятно, бродячая, если судить по впалым изодранным бокам и вислой, клочками, грязной шерсти.
Но – обычная.
Курилов присел на корточки возле трупа застреленного им животного и, схватившись за голову обеими руками, сдавленно простонал:
– Господи… да что же тут такое?
– И это вовсе не собака Баскервиллей, – грустно проговорила я – и вдруг услышала за спиной чьи-то приближающиеся шаги и шумное, хриплое дыхание.
Я выхватила пистолет и, резко обернувшись, вскинула его на того, кто приближался к нам.
Это был пожилой, бедно одетый мужчина с морщинистым лицом, усеянным коричневыми пигментными пятнами, с вислыми щеками и редкими, через один, желтыми зубами.
И на этом непрезентабельном лице особенно ярко выделялись молодые светло-синие глаза.
– Чаво это? – проговорил он, недоуменно посмотрев на пистолет в моих руках, и я даже на таком расстоянии почувствовала волну сильнейшего сивушно-папиросного перегара. – Ты это, дочка, убери, ни к чему тут нам.
Я опустила пистолет.
– Ково это? – невнятно проговорил старик и, подойдя ближе, взглянул на все так же сидящего на корточках Курилова и труп собаки рядом с ним. – А-а-а… Ваську кто-то ухлопал… а-ат, сволычи, кряста на их нет.
– Васька? – отчего-то слабо улыбнувшись, откликнулась я. – Так ведь это ж кошачье имя. Собак надо называть как-нибудь по-другому: Рекс там, Милорд… ну, Бобик или Шарик, на худой конец.
– А мне шо кот, шо собак – один кер, – отозвался старик. – Животная, она и есть животная. Бродют тут… кто ж это его так… ухайдокал?
Никто не ответил. Старик, не дожидаясь, пока мы что-нибудь скажем, продолжал:
– Да, жись тут пошла не сахер медовый. То один помрет, то второй. И говорят-то все дурное… что будто нечистый на промысел вышел. – Старик не спеша вынул из кармана телогрейки мятую пачку «Беломора», достал папиросу и, помяв ее узловатыми, похожими на корни дерева пальцами, сунул в рот и продолжал:
– А надысь приехал ко мне, стало быть, племяш… Димка. Он у мене легавый… ментяра короткошерстный… Хм… где тама, стало быть, енти спички завалились, едри твою в дышло…
При словах «Димка» и «легавый» Курилов поднял голову и пристально посмотрел на старика.
– А-а, вот они… – Старикан прикурил и, пустив мне в лицо облако едкого дыма, продолжал:
– Так вот, Димка мне и сказал: дядько Кузьмич, самогон пьешь? Пью, говорю, как его, родимого, не пить, коли сам же и гоню. Вот и пей, грит, а то у вас просто эпидемия какая-то… все непьющие вымирать стали… сначала Марь Андреева, котора, стало быть, Житинкина, перекинулась… руки себе топорьем посбивала. Потом Федотов, Дормидонтыч… он самогон из принципа не пьет… ветерант. Он в котельной работал, стало быть… сегодни, грит Димка, ишшо один докудахталсси… колом себя проткнул. Ночью. Только вечор нашли. Сам проткнулси.