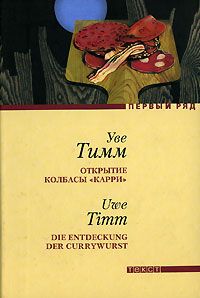Ознакомительная версия.
Круглое зеркало из полированного металла, по раме дивная вязь узоров, отдаленно напоминающих те самые, вычерченные на оконных стеклах февральским морозом. Или грубая статуэтка темного камня, неуклюже-некрасивая и очаровательная в своей некрасивости. Или яркий шелк, норовящий соскользнуть с ладони, тканной водой обнимающий пальцы… браслеты и серьги… многорукое божество с головою слона… пепельница… чернильница… нефритовый шар на высеребренной подставке…
– О боже, Николай, ты снова… – с каждой находкой матушка хмурилась все больше и больше, но даже это недовольство неспособно было нарушить очарование момента. Тем паче, что к матушкиному недовольству Настасья давно уже привыкла, а вот отец расстроился, помрачнел, как-то явно и виновато.
– Оленька, прости… не думал, что столько всего.
Много, замечательно много. Фарфоровый сервиз, тяжеловесно-золоченый и торжественный, расшитый цветами и бабочками бархат, чуть попахивающий сыростью, расписанные в греческом стиле вазы… книги.
Настасья устала, не столько физически, хотя и болезнь еще давала о себе знать, сколько от всеобъемлющей радости и восторга.
– А вот тут, – отец хлопнул ладонью по плоскому ящику, – подарок, о котором я говорил.
Внутри, заботливо укрытые плотным слоем золотой соломы, укутанные в промасленную бумагу, под которой обнаружился тройной слой жесткой холстины, лежали картины.
– «Две Мадонны» Луиджи, – провозгласил батюшка, откидывая последний слой из тонкой папиросной бумаги…
Позже, сидя в каминной зале, Настасья пыталась вспомнить, что же испытала, взглянув в темно-карие, в черноту глаза Печальной Девы, до невозможности похожей на Лизоньку… удивление? Мимолетную, быстро уходящую радость или же страх от этого противоестественного сходства? И еще оттого, что со второго портрета гневно и вместе с тем удивленно взирала на мир она сама?
А матушке картины понравились, она велела повесить их в Музыкальном салоне.
На развалины церкви Левушка все-таки отправился, вот разумом понимал, что если и были какие сокровища, то уже давно нашли себе хозяев. Но ведь тянуло же, грызло, мучило во снах желание поглядеть – всего-навсего поглядеть на место, где некогда лежал самый настоящий клад.
Поглядел. На густые заросли сныти, кое-где украшенные белыми зонтиками цветов, на темные взъерошенные листья жгучей крапивы, на влажную, комковатую землю с грязно-коричневыми бусинками улиточьих раковин. И серый, подпорченный мхом да лишайником валун. Верно, если забраться в заросли, за высоченную крапивно-снытевую стену, укрепленную гибкими колючими побегами ежевики, можно было бы отыскать… еще один камень? Или два? Вырытую в земле яму?
Вот Левушка и стоял, не решаясь ни двигаться вперед, ни повернуть назад.
– Здрасте, – окликнули его сзади. Обернувшись, он увидел ту самую, длинную и худющую девицу, которая то ли была моделью, то ли хотела ею стать. Как же ее зовут-то? Люба? Кажется, да.
– Добрый день, – Левушка решил с именем не торопиться, а вдруг все-таки не Люба, а Лена… хотя нет, Лены вроде не было.
– Местными красотами любуетесь или по делу? – поинтересовалась девица. – Как расследование продвигается?
– Н-нормально.
– Это значит, что никак. Или вы просто не в курсе? Хотя ладно, не хотите говорить и не надо, все равно никого не найдете… – Она сбросила на траву объемный рюкзак и, расстегнув замок, принялась копаться в содержимом.
Левушка чувствовал себя крайне неуютно, с одной стороны, следовало воспользоваться удобным моментом и попрощаться с девушкой, с другой – любопытство мешало уйти. Даже не столько любопытство, сколько ущемленная ее небрежным тоном гордость.
То ли Люба, то ли Лена вытащила из рюкзака платок, перчатки и саперную лопату. Неужто…
– Что, про клад уже слышали? – усмехнулась она, демонстрируя крупные ровные зубы. – Давайте, спрашивайте, чего хотите… или катитесь к чертовой матери.
– С какой это стати?
– А с какой это стати вы позволяете себе столь нагло меня разглядывать? Домогаетесь?
– Н-нет. – Левушка совершенно растерялся, его прежде никогда не обвиняли в домогательствах, тем более, к такой… да она ж на полголовы выше и тощая, будто селедка, вон, спортивная куртка висит, точно на пугале в теть-Валином огороде, и ноги как две палки, а лицо костлявое, некрасивое.
– Да ладно, шучу. Но если хочешь чего спросить, спрашивай, – девица легко перешла на «ты». – Извини, шутки у меня дурацкие, просто настроение ни к черту… а ты участковый наш, верно?
– Верно.
– Смешной. Нет, не в том плане смешной, чтобы посмеяться, а необычный скорее… без обид?
– Без обид. А… ты туда лезть собираешься? – Вопрос вырвался непроизвольно, и Левушке моментально стало стыдно. Ох, права мама, не ту он профессию выбрал…
– Собираюсь, – девица присела на траву, нимало не заботясь о том, что на джинсах останутся грязные пятна давленой травы. – А что, помочь хочешь?
Продираться сквозь заросли было интересно, нет, в одиночку Левушка в жизни не решился бы на подобный подвиг, но не отставать же от дамы.
– Хобби у меня такое, – пояснила Любаша. Ох и шло же ей это имя, в котором Левушке чудилась казачья лихость и почти разбойничья страсть ко всему запретному. Это он сам так придумал и тут же застеснялся собственных мыслей.
– Если по фундаменту, то план восстановить можно будет, и не церковь тут была, а усадьба. Точнее, церковь, она как бы при усадьбе была, а потом та сгорела, ну и восстановили отчего-то лишь церквушку, может, чтобы местным было где молиться, может, просто обгорела не сильно и дешевле было восстановить, чем новую строить. Меня впервые сюда дядька привел, Георгий Васильевич, он археологом был, историком…
Любаша легко переступала через колючие плети ежевики, отводила жгучие стебли крапивы руками, а на сныть и вовсе внимания не обращала. Левушка же ступал осторожно, но несмотря на это спотыкался, раздирая ладони, а на коже то и дело вспухали новые и новые крапивные следы.
– А клад был. Честное слово, был! – Любаша обернулась. – Правда, Дед сказал, что ценности он не имел, ну, с денежной точки зрения, только я не верю. Согласись, что абы какую вещь прятать не станут, да и лет им почти под триста… даже больше, чем триста.
– Кому «им»? – уточнил Левушка, раздвигая темно-зеленые, прогретые солнцем, листья.
– Картинам, – Любаша остановилась в центре небольшой полянки, сбросила рюкзак и, сев на землю, закурила. – Нет, как бы совсем точно я не знаю, купил их Дед или и вправду дядя нашел… конечно, тетушка Берта уверена, что нашел, оттого и не любит говорить, это ж преступление, если клад нашел и не сообщил?
Левушка кивнул, присаживаясь рядом. Трава была холодной и немного мокрой, с редкими каплями одуванчиков, полусгнившим прошлогодним листом, с коричневыми жилками-костьми и тонкой паутиной сухожилий… или у листьев не бывает сухожилий?
– Но ведь если времени много прошло, то уже не заберут? Дед на этих картинах свихнулся, точнее, сначала дядя, а потом уже Дед, и шагу ступить не может, с собой вечно таскает. Ну, конечно, когда за границу едет, то в доме оставляет, а если по России… и вчера вон привез, повесить приказал, будто без картин этих заняться больше нечем. – Любаша раздраженно дернула плечом.
– Так что за картины-то?
– Мадонны… Дед называет их Мадоннами, но в классическом смысле это скорее портреты, чем иконы. Середина семнадцатого века, мастер Луиджи из Тосканы, предположительно изображены дочери барона де Сильверо, Беатриче и Катарина, но насколько верно… понимаешь, об этих картинах вообще ничего не известно, ни у нас, ни в Италии. Ну будто и не существовало такого художника!
– Если бы не существовало, то и картин бы не было, – заметил Левушка. По гибкому мостику из травинки важно и медленно ползла божья коровка, желтый панцирь надкрыльев щеголял черными точками.
Любаша с ответом не спешила, тонкая сигарета медленно тлела, и запах дыма смешивался с многочисленными весенне-травяными ароматами.
– С одной стороны, вроде бы правильно, если есть картина, то и художник быть должен. С другой… он гением был, понимаешь? Хотя нет, что ты можешь понять, если не видел… не Леонардо, не Микеланджело, не Дюрер… гениальность в том, чтобы быть самим собой. У него получилось, особая техника, цвета, манера, само то, как ему удалось передать не столько внешность, сколько характеры… да если бы существовал такой Луиджи из Тосканы, его всенепременно заметили бы. Ну не мог же он написать лишь две картины?
– Ты у меня спрашиваешь?
– Скорее у себя. И еще, куча вопросов: как они в России оказались? Кто привез? Когда? И почему спрятал в доме?
– Революция…
– Революция случилась в семнадцатом году, в тысяча девятьсот семнадцатом, а дом сгорел в конце девятнадцатого века. И не просто так сгорел, а был подожжен хозяйкой поместья… это дядя так говорил. – Докурив, Любаша легла на траву. – Он же не просто так сюда приехал. Предки по матери здесь жили… то ли письма остались, то ли дневники. Или просто легенды… документов я не видела, Дед не позволил, сказал, что не моего ума дело.
Ознакомительная версия.