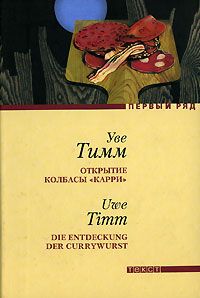Ознакомительная версия.
– А разве их не нужно было сдать? Ну, государству?
– Государству? – хмыкнул Дед. – Нужно. По закону. Но в то время, когда Георгий добрался до клада, вышло, что старое государство уже исчезло, а новое было чересчур непонятным, чтобы доверять ему такие ценности… с ними невозможно расстаться, это наваждение… извращенная форма любви. Проще было заплатить. Экспертиза, оценка… все законно. Георгий – мой племянник, что, впрочем, не столь уж важно, он обратился за помощью, я помог.
– С картинами?
– И с ними тоже, – неопределенно ответил Дед. – Вообще он дело свое открыть хотел, сначала не шло, совсем было фирма легла, потом они появились, и тут же дела пошли… Георгий и возомнил, что удача от них.
– А на самом деле?
– На самом деле? – Иван Степанович нежно погладил серебряную птичью голову на трости. – Кто ж его знает, но с ними в делах везет, без них же… суеверен я, не люблю рисковать, особенно, когда не знаю, в чем риск. И мои о суеверии знают… все знают, оттого и рассчитываю, что поверят.
– Во что поверят?
– В то, что я хочу на тебе жениться.
И все-таки Дьявол, самый настоящий, живой Дьявол, лично явившийся за остатками моей души. Дьявол рассмеялся, хрипло, жестко, и я вздохнула с облегчением, все-таки шутит… конечно, он шутит…
– Вот и ты поверила, – сказал он. – И они тоже… как миленькие… испугаются… чем больше жадность, тем больше страх…
После этих слов все стало на свои места. Дьявол не шутил, он предлагал сделку, серьезную и опасную.
– Вы хотите найти убийцу Марты?
– Умная девочка, – похвалил Иван Степанович и тут же, пока я не успела отказаться, добавил: – Двести тысяч. Евро.
Сонный вечер неторопливо сползал в ночь, темную, расцвеченную редкими звездами, укрытую блестящей снежной шубой, на которой черным узором выделялись галочьи следы. Правда, из окна не видно ни звезд, ни снега, ни следов, разве что кусочек двора, да и то если приложить ладони и дышать, выплавляя озерцо в застывшем с той стороны стекла льду.
– И все-таки этот молодой человек не внушает доверия, – в десятый раз сказала матушка. – Его манеры чересчур уж вольны, даже вызывающи…
– Оленька, манеры – это всего-навсего манеры, зато он умен, образован…
– Склонен к авантюризму.
Настасья вздохнула, слушать этот разговор было неприятно, а не слушать никак невозможно, оставалось надеяться, что родители не заметят ее интереса к обсуждаемому вопросу или того, как руки дрожат. Стыдно, до чего же стыдно. Она вела себя, будто капризное дитя, впадая то в меланхолическую задумчивость, то, наоборот, в непонятное веселье. А все из-за него…
Дмитрий явился без приглашения, и сам этот факт вывел матушку из душевного равновесия, хотя она постаралась ничем не показать гостю свое недовольство. Матушка была вежлива и улыбчива, благосклонно принимала комплименты, которые, правда, несколько отличались от привычных, принятых в обществе, и даже снизошла до приглашения к ужину, верно, не надеясь, что незваный гость ответит согласием. А Дмитрий, улыбнувшись, ответил:
– Всецело в вашем распоряжении, миледи, и пусть душа моя сгорит в аду, если осмелюсь оскорбить отказом.
Матушкино удивление было столь явным, что Настасья с трудом сдержала смех. А вот отцу Дмитрий понравился, беседовали они долго, обсуждая какие-то совсем уж далекие от местной жизни проблемы, и Настасья, пропуская слова мимо, таяла от одного звука этого мягкого, точно венецианский бархат, голоса.
Очнулась она лишь в Музыкальном салоне. Дмитрий, увидев портреты, замолчал и долго, неприлично долго, рассматривал картины, тогда еще Настасья испугалась, что в сравнении с Мадонной выглядит глупо, по-мещански, но гость, проведя рукой по раме, заметил:
– Звезды живые краше нарисованных… пусть и подобное мастерство редко встретишь. Флоренция?
– Пруссия, – поправил отец. – Но художник – итальянец. Луиджи из Тосканы, к сожалению, кроме имени, ничего узнать не удалось.
– Время пожирает и людей, и саму память о них.
– Превращая ее в легенды, – батюшка подошел к картинам. – Отчего-то часто случается так, что чужой талант порождает в сердцах людей не столько восхищение, сколько зависть и страх. И чем гениальнее творец, совершеннее творения его, тем чудовищнее слухи.
Настасья слушала, затаив дыхание: никогда прежде батюшка не вел подобных речей.
– Взять хотя бы Луиджи. Кто ныне слышал об этом художнике? И отчего единственные работы его сыскались в Пруссии, а не в родной ему Италии? Не оттого ли, что в картинах его было чуть больше жизни, чем дозволялось церковью? И не из-за обвинения ли в ереси вынужден он был покинуть родные места?
– Догадки, всего-навсего догадки, – возразил Дмитрий.
– Увы, прошедшие годы не оставляют ничего, кроме догадок… ну и еще, быть может, легенд. Признаться, картины эти обошлись мне в сумму более чем скромную, и данное обстоятельство поначалу весьма меня удивило, заставив заподозрить агента в обмане, ибо за один лишь возраст он мог запросить цену втрое большую. Однако же, как выяснилось впоследствии, дело было в том, что с именем мастера, равно как и с чудесными образами этими, связана весьма и весьма мрачная история, породившая преглупое суеверие о том, что «Мадонны» Луиджи приносят беду.
С тихим шелестом открылся матушкин костяной веер, пойманной бабочкой затрепетал в руке, заставляя пламя свечей кланяться под напором рукотворного ветра. Но к счастью, батюшка не обратил внимания на это проявление недовольства и продолжил рассказ.
– Мадонны – это портреты дочерей барона де Сильверо: Беатриче и Катарины.
– Дерзко, – Дмитрий снова поглядел на картины, но теперь как-то иначе, хотя Настасья не смогла бы определить, в чем состояла эта инаковость: выражение лица то же, улыбка, взгляд, но словно внутри что-то повернулось.
Все-таки, видать, нервы не в порядке. Снова чудится. Правда, на этот раз не темное, как прежде, а светлое и радостное. Только бы не обернулся, не заметил ее интереса, почти непристойного для девицы… матушка потом укорять станет, а Настасье все равно. Смотреть на Дмитрия можно бесконечно долго, выискивая, запоминая мельчайшие детали. Высок, строен, даже худощав, кожа смуглая, в медную красноту, а волос русый, выгоревший на солнце…
– Бытует мнение, что именно за дерзость Господь и покарал мастера, осмелившегося оскорбить небесный образ. Поскольку я всегда отличался любопытством к вещам подобного рода, то постарался узнать о бароне и дочерях его как можно больше, втайне надеясь пролить свет и на личность художника.
– Удалось?
– Нельзя сказать, что я потерпел неудачу, равно как и утверждать, что добился своего, – батюшка уселся в кресло и, указав Дмитрию на второе, заметил: – История долгая и прелюбопытная, но в правдивости ее не уверен.
– Не думаю, что это кому-нибудь интересно, – заявила матушка, и веер в ее руке зашелестел чуть громче. Дмитрий же поспешил ответить:
– Ну что вы, мадам, разве есть что-либо интереснее тайны, самим временем укрытой и упрятанной от любопытствующих взоров?
– А не боитесь ли вы, сударь, что подобное любопытство в некоторых случаях не совсем уместно? – Матушка раздраженно захлопнула веер, и в наступившей тишине отчетливо был слышен печальный Лизонькин вздох. Видимо, ей очень хотелось услышать и про картины, и про тайны, да и сама Настасья не отказалась бы… батюшка умел рассказывать истории, порой страшные, порой забавные, но всегда безмерно интересные.
Дмитрий же на матушкино раздражение ответил улыбкой.
– Страх, сударыня, порой влечет к последствиям гораздо более неприятным, нежели любопытство. Да и неужто вам не хочется знать, что за вещь вы впустили в свой дом? Поверьте, в этих картинах чересчур много жизни, чтобы относиться к ним только как к предметам.
Беспомощный и растерянный матушкин взгляд, веер, выскользнувший из пальцев и распластавшийся на ковре, чуть дымное пламя свечей и черная блестящая спина клавесина… Черная Мадонна с укором взирала на людей, а в улыбке ее сестры Настасье чудилась издевка.
– Ваш веер, сударыня, простите за дерзость, порой я бываю невыносим… – Дмитрий губами коснулся матушкиной руки, жест вежливый, но Господи, до чего неприятно видеть.
– Ну… – батюшка откашлялся. – Если такое дело, то… барон Антоний де Сильверо был человеком богатым и известным.
Отец извлек из кармана китайские четки, старая привычка, которая помогала ему сосредоточиться на повествовании, а Настасье просто нравилось наблюдать за тем, как бусины перекатываются в отцовских пальцах, то догоняя друг друга на шелковой нитке, то, наоборот, замирая, застывая на мгновение, чтобы затем снова упасть в прорисованную нитью пропасть.
Ознакомительная версия.