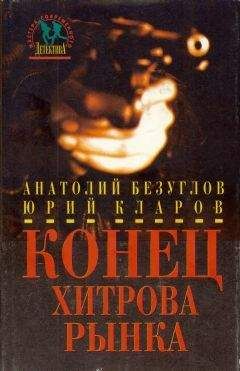Ознакомительная версия.
Зайков замолчал, и я спросил:
— Это все?
— Почти.
— А где же нравоучение?
— Нравоучение? Как и во всех хрестоматийных историях, соль здесь в послесловии.
— Вы меня заинтриговали.
— Итак, Диану спасли, — сказал Зайков. — Так мне, по крайней мере, казалось. А через год, уже будучи кадетом, я, или, точнее, мой однофамилец, навестил егеря и Диану, но… Но, представьте себе, Александр Семенович, что Дианы как таковой уже не было. Диана приказала долго жить. Собака егеря, хотя и была похожа на Диану, отзывалась лишь на кличку «Машка». А Машка не знала ни хозяина Дианы, ни меня, ни кунштюков, ни осины, на которой повесили Диану… Вначале меня это удивило: ведь в кадетском корпусе не преподавали философии. Но после некоторых размышлений я кое-что понял. Я понял, что и животные и люди умирают не единожды, а многократно. И умирают и рождаются…
— В этом заключается ваше открытие?
— Да, его упрощенная схема, — Зайков улыбнулся. — Я понял, что после того, как удавившегося на осине Иуду вынули из петли, он мог воскреснуть Авелем, генералом Скобелевым или Борисом Савинковым.
— Вы не лишены воображения, Иван Николаевич…
— Свойство профессии. Куафер без воображения — ремесленник. И филировка волос, и силуэтная стрижка, и тушевка, и окантовка — все это требует фантазии.
— Возможно. Я плохо в этом разбираюсь. Итак, осина, выполняющая функции мертвой и живой воды?
— Я бы сказал иначе: дающая новую жизнь, ничем не связанную, кроме анкеты, с предыдущей. Цепочка смертей и рождений, чудесных превращений мертвых иуд в живых скобелевых, повешенных диан в машек…
— А полковников генерального штаба в куаферов?
— Я прожил несколько жизней, — сказал Зайков. — Полковник генерального штаба не сразу превратился в куафера. Первая моя осина была в октябре семнадцатого, вторая — в двадцатом, в Гурьеве, где мне привелось беседовать с одним очаровательным матросом из губчека. Потом третья, когда я стал интендантом, потом четвертая… Все в полном соответствии с законами диалектики развивалось по спирали, от низшего к высшему, от простого к сложному… Теперь я на вершине спирали, хотя у спирали, и не должно быть вершины. Теперь я куафер. Я родился куафером, Александр Семенович.
— Уничижение паче гордости?
— Что вы, призвание! Чувствую, что вы должным образом не оценили моего открытия. И, смею вас уверить, напрасно. Скептицизм здесь неуместен. Куаферство действительно сейчас мое призвание. Скажу больше: кажется, оно было моим предназначением и раньше, в прошлых жизнях, только я не сразу понял это. Для многих подобная непонятливость закончилась трагически.
— Почему же? Согласно вашей теории, они могли воскреснуть и возродиться в любом образе. Вполне возможно, что они где-то здесь среди контрабандистов, каэровцев или налетчиков.
— Вы правы, хотя я и подразумевал духовное воскресение, — согласился Зайков. — На такое предположение мне не хватило фантазии. Куафер — только куафер. Не больше.
— Кстати, когда произошло это чудесное превращенье?
— Что вы имеете в виду?
— Воскресение вашего однофамильца куафером.
— Давно, очень давно…
— А все же?
— Вскоре после ареста, Александр Семенович.
— К тому времени, если не ошибаюсь, он уже был вторично женат? Ведь первая жена погибла в Омске в двадцать втором.
— И жена и сын…
— Простите. И жена и сын… Значит, он был вторично женат?
— Да.
— И жену звали Юлией Сергеевной?
Протянувший было руку за печеньем Зайков замер. Быстро взглянул на меня. Сделал глоток из стакана, скривил губы:
— А чай-то остыл, Александр Семенович…
— Я подогрею.
— Не утруждайтесь. С вашего разрешения я это сделаю сам.
Он включил электроплитку. Темные витки спирали порозовели, затем стали красными.
— Быстро накаляется… Хорошая плитка. Вы ее тоже из белокаменной привезли?
— Нет, не из белокаменной.
Зайков бесшумно поставил чайник, посмотрел в окно, где заходящее солнце окрасило охрой остроконечный колпак Архангельской башни, а густая тень монастырской стены легла на лед Святого озера.
И я подумал, что он, наверно, очень любит Юлию Сергеевну, эту хрупкую женщину со злыми глазами, которая совсем неплохо приспособилась к жизни. Мне она не показалась ни красивой, ни умной. Мещанка, мелкая хищница.
Юлия Сергеевна, Шамрай, Зайков и неизвестный — треугольник, обогатившийся четвертым углом…
Зайков молчал. Вокруг глаз темнели тени. Дряблая кожа под подбородком, жилистая худая шея, обвислые брыли щек…
Почему мне раньше казалось, что он выглядит моложе своих лет? Куда там моложе — старше! Изжеванный, измусоленный жизнью человек. Старик, полюбивший молодую женщину. Древняя, как мир, история, которой куплетисты посвящают веселые песенки, хотя смешного здесь не так уж и много. Увы, Иван Николаевич, осина вам не помогла: Диана в Машку не превратилась. Еще никому не удавалось прожить вместо одной жизни десять. Годы, судьбу и историю не обманешь. Да и самого себя тоже трудно обмануть, хотя вы довольно искусно пытаетесь это сделать.
Зайков снял закипевший чайник, разлил чай, поставил передо мной стакан.
— Мне бы не хотелось говорить о Юлии Сергеевне…
— Знаю, Иван Николаевич.
— Если бы вы больше не упоминали ее имени, я был бы вам очень благодарен. Более неприятную для меня тему трудно избрать…
— Это я тоже знаю.
— И тем не менее хотите продолжить разговор?
— У меня нет иного выхода, Иван Николаевич.
— Вот как!
— К сожалению. Для этого разговора, собственно, я и приехал на Соловки.
— Даже так?
— И это, кстати говоря, для вас не тайна.
— Я вас не понимаю, Александр Семенович.
— Понимаете, Иван Николаевич, прекрасно понимаете.
— Вы уверены?
— Разумеется.
— Откуда такая уверенность, позвольте полюбопытствовать?
— Вы получили письмо от Пружникова? — Он молчал, словно не слышал моего вопроса. А может быть, он действительно не слышал. — Получили или нет?
— Получил…
— Вот видите.
— Выходит, он писал под вашу диктовку? — обронил Зайков.
— Нет, письмо им написано самостоятельно, — сказал я, — по собственному желанию, точно так же, как и письмо Юлии Сергеевны.
— Но вы, конечно, знакомы с содержанием письма Пружникова? — Зайков ждал ответа.
— Тоже нет. Я не люблю читать чужих писем. Кроме того, Пружников не говорил, что собирается писать вам.
— Вы сами себе противоречите.
— Нисколько. Разве воображение — привилегия только куаферов? Зная ситуацию и Пружникова, нетрудно предугадать дальнейшее развитие событий, а следовательно, и содержание письма. Значит, я не ошибся?
— Не ошиблись.
— И как же вы отнеслись к моему возможному приезду?
— Откровенно?
— По возможности, если вас, конечно, это не затруднит.
— С полнейшим равнодушием, Александр Семенович. Ведь вы не в состоянии ни улучшить, ни ухудшить моего положения.
— Справедливо. Да я, признаться, к этому и не стремлюсь.
— И все же…
— И все же я обещаю не копаться в ваших отношениях с Юлией Сергеевной, или, если вас так больше устраивает, в семейных отношениях вашего однофамильца.
— Милость к павшим? — с иронией спросил Зайков.
Нет, рационализм и целесообразность. У меня нет необходимости расспрашивать вас о Юлии Сергеевне: я с ней в Москве беседовал. Что же касается ее личной жизни, то это сугубо ваше дело.
— Только ее, — поправил Зайков.
— Пусть так. В любом варианте меня интересует лишь один случай, который произошел 25 октября прошлого года. Но прежде я попрошу вас взглянуть на эти стихи.
Зайков взял из рук стихи, вслух прочел:
— «Здорово, избранная публика, наша особая республика…»
— Кем это написано?
— Вы же прекрасно знаете, что мною, — сказал он… — А если бы не знали, то легко могли установить с помощью графологической экспертизы.
— Графической.
— Графической. Я в сыске профан.
— Это ваше сочинение?
— Нет.
— А чье?
Он развел руками:
— Фольклор. Репертуар раешников. В конце двадцатых годов это исполнялось во всех отделениях и пользовалось у публики неизменным успехом. Это и еще: «Бросая темным братьям свет, нас освещает и просвещает наш Соловецкий культпросвет…»
— А почему раешник написан вашим почерком?
— Потому, что он одна из ста или ста пятидесяти копий, сделанных мною для поклонников жанра… Тогда я еще курил, а каждый экземпляр стоил пять папирос или полстакана махорки первого разбора. Самые светлые годы в моей новой жизни — признание, популярность, непоколебимый авторитет, вес в обществе. Я был принят в высшем свете, и даже Павел Нифонтович Брудастый, по кличке «Утюг», и тот удостаивал меня рукопожатием… Успех, слава, махорка… О чем можно еще мечтать? От одних воспоминаний голова кружится!
Ознакомительная версия.