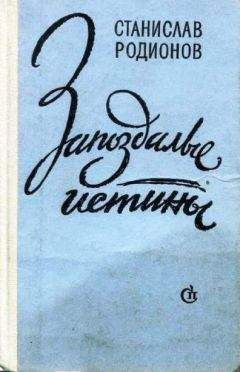Но тут же Петельников понял, что судьба Артиста решена, потому что руководитель поершил бородку и спросил вполголоса:
— А он нас не обворует?
Он дышал в три приема, как учили йоги. И рекомендовали утром, сразу после сна, сосредоточить свою мысль на чем-нибудь одном, на каком-то несуетном предмете. Леденцов выбрал десятикилограммовую гантелину, спокойнее ее ничего на свете не было. Он делал зарядку, стоял на голове, принимал душ, думая лишь об этом чугунном снаряде. Но шаровидные култышки в его сознании делались резиновыми, становясь то вытянутой головой Бледного, то лобастым кругляшом Шиндорги. И волевая мысль, Заслоненная этими марионетками, перескакивала на случай с сигаретой…
Ребята не хотели быть хорошими. Вернее, стеснялись. Почему? Почему плохим быть менее стыдно, чем хорошим? В чем тут тайна? Не задать ли этот вопросик своему блокноту под названием «Мысли о криминальной педагогике, или Приключения оперуполномоченного Бориса Леденцова в Шатре».
Но его позвали пить кофе.
Людмила Николаевна по воскресной привычке просматривала за завтраком журналы, листая какой-то иностранный ежемесячник. Ее смешок удивил: что может быть веселого в рефератах по биологии?
— Боря, для тебя. В моем свободном переводе… Так, существует множество теорий преступности. В том числе и биологическая, которая утверждает, что преступления совершают люди, имеющие сорок семь хромосом. Надеюсь, ты знаешь, что у человека их сорок шесть?
— А не тридцать две?
— Боря, это зубов тридцать два. Так, дальше… Известный борец… Пожалуй, громила. Известный громила Пит Чауз, отбывающий девяностодевятилетнее заключение — боже! — эту теорию опроверг. У него ровно сорок шесть хромосом, как у нормального человека. Вот смешное… Когда исследовавшие его ученые рассказали про теорию, Пит Чауз ее одобрил и сказал, что все верно: у него сорок семь этих самых хромосом. На вопрос ученых, откуда ему это известно, Чауз сказал: «За свою жизнь я ухлопал ровно сорок семь несговорчивых типов».
Леденцов слушал вполуха, даже не усмехнулся. А что, если теория верна? И у всех этих Бледных, Шиндорг и Грэгов по сорок семь хромосом? Тогда хоть лопни, а Шатра не разогнать. Нет, теория глупа: ему были известны пропащие подростки, которых теперь не узнать. Скажем, Генка-дух. За импортный диск маму не пощадил бы. А теперь Геннадий Михайлович Духов, изобрел тележку-самокатку для садоводов.
— Боря, сотрудников уголовного розыска обворовывают?
— Плох тот сотрудник, которого можно обокрасть.
— Значит, ты плох, Боря.
Он глянул на нее непонимающе. Она пила кофе, как всегда, с каким-то артистизмом, будто ее тайно снимают для кино: голова с тяжелыми каштановыми волосами слегка откинута, спина пряма, щеки голубоваты даже после душа, чашечка поднята высоко и любовно.
— Боря, нас обокрали.
— Как?
— Триста рублей из шкатулки…
— Сто пятьдесят завтра верну.
Завтра он выходил на работу. Половину ущерба взял на себя Петельников. Идти за денежным возмещением к руководству они не решились.
— Боря, я не прошу вернуть. Если тебе нужно…
— Деньги пошли на одно оперативное мероприятие.
— О, мы финансируем работу милиции?
— Мама, сколько ты скупила для лаборатории на свои деньги белых мышек, кошек и разных там морских свинок?
За это непочтительное напоминание его послали на рынок за картошкой, снабдив двумя сумками на пять килограммов каждая. И советом: купить рассыпчатой, с песчаных, лучше всего с новгородских, земель. Размяться он был не прочь, да и думать это не мешало.
Все-таки почему ребята стыдятся своих хороших порывов? Он же видел, как они мучились болью отличника, чужой болью. Почему им хотелось казаться более жестокими, чем они были на самом деле? И опять-таки, почему плохим быть не стыдно, а хорошим стыдно? Тут какая-то глупая загадка, кособочившая человеческие отношения, ибо добро есть добро, как и свет есть свет.
На рынке Леденцов сразу пробежал в картофельный ряд. Зимой тут лежали унылые груды, вся картошка была одного серого тона. Сейчас неокрепшая кожура имела свой цвет и даже оттенки. У каждой хозяйки интересные клубни. Розовые, продолговатые, ровненькие, как отполированные; круглые, вроде бы сиреневые, и такой яркости, словно их окунули в чернила да еще чуть-чуть прибавили серебристого блеску; маленькая и беленькая с кожицей-пленочкой, которую и чистить не надо; громадная, желтая, будто уже заправленная сливочным маслом, поэтому даже на вид сытная… К этой, к сытной, он и подошел.
— Это картошечка? — на всякий случай спросил Леденцов, озадаченный ее размерами и сливочной желтизной.
— Неужели апельсины?
— А чья?
— Моя и есть.
— Вернее, из какой земли?
— Так со своего огорода.
— Точнее, из каких мест?
— Новгородская.
Ему и велено купить новгородской, рассыпчатой. Десять килограммов, чтобы хватило надолго.
На улице, при скорой ходьбе сумки тяжелели. Он намеревался, как и было задумано, нестись с ними до дому, но подвернувшийся трамвай соблазнил. Леденцов угнездился на площадке, сразу вернувшись к прерванному размышлению, не отпускавшему его…
Коли стыдно быть хорошим… Но это же тупик! Коли стыдно быть хорошими, то какими остается быть? У них нет положительного идеала, даже самого завалященького, а тогда им некуда и двигаться. К кому, к чему? Черти парнокопытные! Шиндорге запугивать первоклашек не стыдно, Бледному выражаться при Ирке не стыдно, Грэгу не уступить места и положить гитару женщине на колени не стыдно, Ирке не по-девичьи хлестать вино и ходить распустехой не стыдно. А показать сострадание к чужой боли…
Подросток лет тринадцати сидел крепко и угрюмо. Рядом стояли две пожилые женщины. Одна смотрела в потолок с таким видом, будто сидеть ей век не хотелось; вторая разглядывала мальчишку, как заползшее в трамвай насекомое. Но обе молчали. Леденцову захотелось подойти и огреть мальчишку картошкой — новгородской, рассыпчатой. Не из таких ли мальчуганов проклевываются шатровые петушки?
Трамвай остановился. Леденцов нехотя, словно что-то здесь не доделал, вывалился на асфальт. Приехал и мальчишка.
— Гражданин, можно вас? — остановил его Леденцов.
— Чего?
— Ответь мне на один интимный вопрос.
— Домой надо…
— Скажи: у тебя протез?
— Какой протез?
— Деревянный, алюминиевый, пластмассовый… Короче, у тебя костяная нога?
— Нет…
— Может, плоскостопие или колченогость?
— Зачем…
— Ранен, контужен?
— Не контужен.
— Ага, значит, болен.
— Чем болен?
— Мало ли чем. Грипп, коклюш, свинка, а?
— Не болен.
— Ага, значит, устал.
— Чего вы ко мне прицепились?
— Тогда ответь мне, как мужчина мужчине: почему ты не отлип седалищем от места и не уступил его женщине, у которой наверняка и ноги болят, и грипп есть, и усталость лошадиная? А?
Мальчишка мгновенно насупился. Выходило, что к нему не бездельно пристал молодой рыжий парень, а остановил взрослый за допущенную провинность.
— Не знаю, — промямлил он, разглядывая асфальт.
— Ведь тебе что сидеть, что стоять. Так?
— Ну, так.
— Почему же не уступил?
— Не знаю…
— А ты подумай.
Со стороны их могли принять за братьев: старший отчитывает младшего, например, за то, что тот не хочет взять одну из тяжелых сумок. Уже прошли два трамвая, уже люди намекающе их поталкивали.
— Стыдно, — вдруг сказал мальчишка.
— Стыдно уступить место? — не поверил своим ушам Леденцов.
— Угу.
— Стыдно поступить хорошо?
— Все будут смотреть…
— Впредь не стыдись, — рассеянно отпустил его Леденцов.
Совпадение поразило: его подопечные тоже стеснялись добрых дел. Неужели все подростки такие? Но он вспомнил свою школу, где умных уважали, хороших любили. Возможно, разгадка лежала где-то в сравнении Шатра и его школы. Сосредоточиться мешали тяжелые сумки.
Дома он прошел в свою комнату, сел на диван и включил тихую задумчивую музыку. Педагогические сочинения ждали его строго и уже вроде бы нетерпеливо. В них есть ответы, там все есть…
Неожиданно припомнилось, как он выступал в ПТУ. Была встреча молодых работников милиции с молодыми рабочими. Он рассказал про свою работу и предложил задавать вопросы. Их не оказалось. Он ударился в воспоминания острых случаев из практики. Ни одного вопроса. Тогда Леденцов подбросил «клубнички» — про трупы, про заглоченные бриллианты, про насильную любовь… Вопросов не было. Так бы и тянулось, не осени его, что он не с беседой выступает, а элементарно перед ними выпендривается. После вечера педагог ему объяснил: «Вопросов они не задавали, потому что стесняются выглядеть умными».
Мама звала обедать…