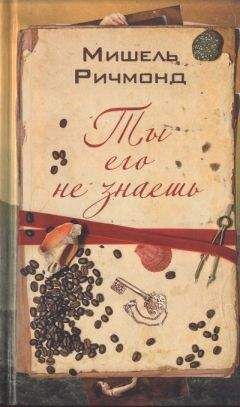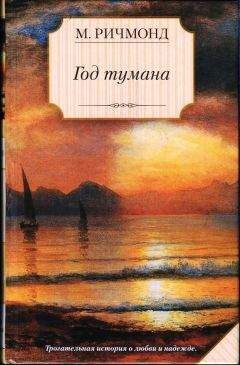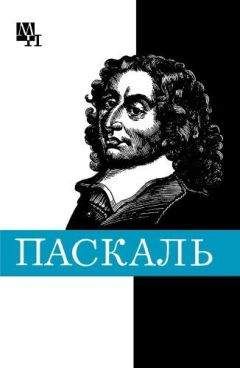Порой мне казалось, что это я двадцать лет тому назад попала не в ту комнату и дверь за мной затворилась. По ту сторону двери осталась жизнь, которая была мне суждена. А по эту сторону двери, захлопнувшейся как ловушка, — жизнь, в которую я ввалилась ненароком. Я рвалась назад, туда, откуда шагнула за порог, но дверь заперта наглухо.
Как все осужденные, Дрейфус был признан виновным потому, что судьи уверовали в некую историю о нем. Пуанкаре предложил иную версию истории, и это изменило ход жизни Дрейфуса. Что, если существует и другая история смерти моей сестры? Такая история, что изменит ход жизни Мак-Коннела, а может, и моей собственной?
За все свои тридцать восемь лет я ни разу не совершила ничего из ряда вон выходящего. Случая не подворачивалось, уверяла я себя, нет у меня ни способностей, ни возможности принести кому-нибудь пользу. Быть может, теперь и явился как раз тот самый случай? Мак-Коннел — единственный, не считая членов нашей семьи, кого Лила впустила в свою жизнь, кому она доверяла. Подобно Дрейфусу, Мак-Коннел был обвинен судом общественного мнения на основании истории, — не исключено, что сфальсифицированной истории. Быть может, я все-таки сумею совершить кое-что; быть может, мне удастся возвратить Мак-Коннелу хоть немногое из того, что он потерял.
А заодно попробовать помочь родителям. Десять лет назад они развелись. Потеряли последнюю надежду наладить отношения. Трещина, что пролегла между ними после смерти Лилы, год от года росла. Сначала они стали порознь проводить отпуск, мама подолгу жила в одиночестве на Русской реке. И наконец оба решили, что семьи им не сохранить. В тот вечер, когда развод был окончательно оформлен, мама зашла ко мне поужинать.
— Если б было какое-никакое официальное решение, — говорила она, — арест, обвинение, тогда, думается, мы с папой как-нибудь пережили бы. По правде говоря, вся эта история с Мак-Коннелом не более чем беллетристика. Быть может, так оно и было, но где правосудие? Никто не ответил за то, что случилось с нашей девочкой.
Когда Лиле не давалось решение той или иной задачи, она переворачивала листок бумаги вверх ногами.
— Помогает освежить взгляд, — объясняла она. — Приходится сосредоточиваться на каждой цифре, на каждом символе. Будто смотришь на ту же картинку другими глазами. Иной раз достаточно одного взгляда, бац! — и все становится ясно.
За долгие годы я так привыкла к картинке, намалеванной Торпом, что ее истинность не вызывала у меня сомнений. Но настало время признать: историю Торпа я приняла по инерции. Горе застило глаза. Какая уж тут логика… Вина Торпа очевидна: создал лживое во многом произведение, но и я была виновата не меньше: поверила с ходу, не удосужившись подвергнуть его теорию мало-мальски серьезной проверке. После удивительной встречи с Мак-Коннелом все выглядело по-иному, словно страницу перевернули вверх ногами.
Возле книжного магазина «Зеленое яблоко» нес караул деревянный гном. По скрипучим ступеням я поднялась на второй этаж. Между Фрэнком Тистлетвейтом («Великий эксперимент: введение в историю американского народа») и Грантом Уденом («Легенды о героях рыцарских веков») отыскала Эндрю Торпа. Эта обложка… Лицо сестры на фоне моста «Золотые Ворота». На тыльной стороне суперобложки, над несколькими лестными отзывами, — фотография моего давнишнего учителя, серьезного, но добродушного, в темном свитере и при очках. На улице снимали — волнистые волосы отброшены назад ветерком. Стоит подбоченившись, в камеру глядит спокойно и уверенно — такому человеку можно доверять, уж он-то не станет небрежничать с фактами. Но странное дело — во времена нашего с Торпом знакомства у него уже редели волосы, а здесь такая богатая шевелюра. Фотка явно сделана задолго до выхода книги, ему тут едва за двадцать. Глядевший на меня с обложки человек был, по сути, тем же самым, но в ином воплощении. Этот, на снимке, бесспорно оптимист, а от того, которого я знала, который написал книгу, исходил легкий, но несомненный душок разочарования пополам с болезненным честолюбием.
Рядышком с «Убийством в Заливе» стояла еще одна брошюра Торпа, «По следам садиста», о том, как похитили и истязали жену известного предпринимателя из Сакраменто. И здесь на обложке красовался тот же молодцеватый Торп. Нашлось еще два экземпляра третьей книги, «Победитель, побежденный», о том, как в Дубае, на марафонских соревнованиях, средь бела дня был убит журналист. И снова та же фотография. Ну не желает человек стареть! Была и четвертая книжка с его именем и незнакомым названием — «Во второй раз — просто чудо». Уцененное первое издание за 4,95 доллара. Из аннотации на обложке следовало, что это мемуары о семейной жизни, история любви, дающая надежду одиноким мужчинам. «Думаете, вам никогда не найти любви? Так считал и Эндрю Торп. Пока не встретил Джейн, женщину, подарившую ему второй шанс на счастье».
Здесь фото Торпа посвежее: заметно округлившиеся щеки и никаких попыток скрыть растущую лысину. Снято, похоже, в домашнем кабинете. Сидит за столом, руки на старенькой электрической пишущей машинке. Машинка, надо думать, реквизит, для придания романтического флера. Когда я с ним водила дружбу, Торп буквально все писал на компьютере. На левом углу стола два деревянных книгодержателя в виде носа и кормы корабля.
— Это намек, — сказала я, вручая ему книгодержатели в конце весеннего семестра, через пять месяцев после смерти Лилы. — На «Одиссею».
Это было одно из обожаемых им произведений.
— Ну зачем ты, право слово…
— Просто в знак благодарности.
Он удивленно поднял брови:
— За что?
— За доброту. За то, что хорошо слушали.
— А я вовсе не из доброты, — покачал головой Торп. — Мне нравится с тобой общаться.
Теперь, разглядывая в книжном магазине постаревшего, поутихшего Торпа, я подивилась — надо же, сохранил мой подарок.
Устроившись в кафе «Голубой Дунай», дальше по улице, я принялась читать. Самое начало, где Торп подробно описывает, как было найдено тело Лилы, пропустила (не смогла себя заставить), перескочила сразу на четвертую главу: «Первая любовь».
«В одиннадцать лет, — писал Торп, — Лила открыла для себя лошадей».
Что правда, то правда. Я прекрасно помнила эту историю, и именно в моем изложении, только в слегка измененном виде, она появилась в книге. Случилось это, когда Лиле было десять лет. В первый раз она ночевала не дома, а за городом, в графстве Сонома, в лагере для девочек с безобидным названием «Поиск». Как она плакала, когда наша машина въезжала в ворота! А когда мы остановились перед зданием клуба, мертвой хваткой вцепилась в пристяжной ремень и заявила, что не выйдет из машины до тех пор, пока ее не отвезут обратно в город, домой.
Только Саре Бет, долговязой и тощей воспитательнице, удалось выманить Лилу наружу: она подвела старую кобылу по прозвищу Спайс к Лилиному окошку, вручила Лиле яблоко, Спайс схрупала его прямо у той из рук — и дело было в шляпе. Когда в понедельник утром мы приехали забрать Лилу, ни о чем другом кроме как о Спайс она не говорила.
С тех пор Лила стала раз в неделю ходить на уроки верховой езды. На ее тринадцатый день рождения, убедившись, что лошади для дочки не блажь, которую она со временем перерастет, родители Скрепя сердце решились подарить ей лошадку по имени Дороти — рыжую, в белых «чулочках» и с белой полосой вдоль морды. Родители сняли конюшню в маленьком городке Монтара, на машине минут тридцать пять вниз по побережью. Там карабкались на холмы крепкие деревянные домики, а внизу тянулась длинная золотая лента песчаного пляжа. За домами, в тени секвой, расстилались сотни акров необработанных земель, здесь же приютилась парочка небольших ферм. Конюшня, где Лила держала свою Дороти, разместилась на пустоши в полутора километрах от автострады № 1; в погожий день, забравшись на ворота площадки для выездки, я видела несущиеся по извилистому, тряскому шоссе автомобили, а за ними — знаменитые волны пляжа Монтара.
— Я знаешь что подумала, — объявила мне однажды Лила вскоре после того, как заполучила свою Дороти. Мы сидели на заборе, огораживающем площадку для выездки, и ждали Лилиного тренера, а Дороти недовольно фыркала и топталась поблизости, поднимая тучи пыли, от которых я беспрестанно чихала. — Пусть она будет нашей общей лошадью. — Лила болтала ногами, выстукивая сапогами барабанную дробь на заборе. — Ну, не навсегда, а только пока мама с папой не купят тебе твою собственную лошадь.
— Не нужна мне никакая лошадь, — ответила я. Глазеть на Дороти с приличного расстояния — еще куда ни шло, даже приятно, но грязь под ногтями, шершавая лошадиная шкура — брр, мурашки по коже.
Лиле я, конечно, ничего этого не сказала, но она все равно вытаращилась на меня так, словно только что узнала, что я ей не родная сестра.