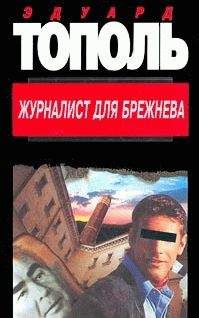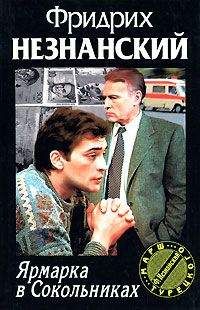Крашенный бурой краской коридор, зарешеченные окна на уровне тротуара, так, что видны только ноги прохожих и слышны крики мальчишек, которые во дворе моей школы играют в футбол. Дежурный сержант провел меня к какой-то двери, втолкнул внутрь, и сам остался снаружи…
Внутри меня уже ждали. Привычные грубые руки тут же обшарили карманы джинсов, и только после этого дюжий русский милиционер – старшина – приказал:
– Бруки сымай, ипонать! Обувь тоже! Шнурки вынай и пояс.
Снял брюки, кеды, жду. Старшина тщательно и спокойно, почти флегматично прощупал резинку трусов, затем высыпал на стол содержимое карманов – полпачки сигарет, носовой платок, восемь рублей (все мои остальные командировочные деньги вместе с документами остались в дорожной сумке, в руках у Ани Зияловой). Вслед за этим так же не спеша, старательно прощупал швы джинсов и вернул мне всю одежду, кроме ремня и шнурков от кед. Пересчитал сигареты в пачке – там было шесть штук, подумал с полминуты, сказал:
– Ладно, держи, ипонать! Покуришь.
Я оделся, взял сигареты.
– Пошли, – сказал он.
Коридор как бы продолжался, но теперь вместо дверей кабинетов были металлические, с глазками и запорами, двери камер. Я насчитал их шесть. Старшина мягко, на цыпочках подошел к четвертой, заглянул в глазок, беззвучно выругался матом, потом разом отодвинул засов и открыл дверь. Смесь спертой вонищи, табачного дыма и немытых тел пахнула мне в лицо.
– Фулевый! – крикнул в камеру старшина. – Карты отдавай, ипонать!
– Какие карты? – послышалось из камеры.
– Заходи, – кивнул мне внутрь камеры старшина, и я шагнул в КПЗ – пыльную, с двухэтажными нарами, с высоким немытым зарешеченным окном камеру. В одном углу, недалеко от окна, стоял толчок с краном смыва, в другом – бачок с водой и прикованная цепочкой кружка. Вот и вся «мебель» в камере. На верхних нарах кто-то спал, а на нижних валялись и сидели человек восемь, и один из них – худой, сорокалетний, в свитере на голое тело, с татарскими глазами – пытался спорить со старшиной:
– Какие карты, старшина, ты что?
– Кончай ваньку ломать, ипонать, – спокойно сказал старшина. – Давай карты или Багирова позову.
Я понял, что Багиров – этот тот капитан, который меня только что саданул по уху так, что уже синяк над виском.
– Багирова, Багирова! – передразнил старшину татарин и протянул сидевшему рядом парню стопку крошечных, величиной со спичечный коробок бумажек – рисованные на клочках ученической бумаги карты. – Шах, отдай ему, х… с ним.
Шах взял карты, подошел к двери, на ходу окинул меня коротким взглядом, сказал старшине:
– Дали бы книжку почитать…
– Давай, Сашка, давай, – потребовал у него карты старшина. – Читатель, ипонать! – Он взял карты, спросил: – Все тут?
– Бубновой дамы не хватает, – сказал парень.
– А где она, дама эта? – спросил старшина.
– А я ее трахнул, – сказал из глубины камеры Фулевый. – А теперь она инвалиду сосет. – И расхохотался своей остроте, и вся камера тоже расхохоталась, кроме спавшего наверху инвалида с подвязанной к ноге культей.
Сашка Шах тоже улыбнулся.
Старшина ухмыльнулся беззлобно, глядя то на хохочущего Фулевого, то в глубину камеры, куда ему, охраннику, нельзя было входить без хотя бы еще одного дежурного, то на Сашку. Сашка, все еще улыбаясь, стоял у двери. И вдруг ногой в пах старшина так саданул Сашку, что тот согнулся вдвое и тут же попал подбородком на уже приготовленное к удару колено старшины, и старшина только чуть-чуть, несильно поддел этот подбородок коленом, отчего Сашка опрокинулся на спину. В тот же момент старшина захлопнул дверь, грохнул снаружи засовом и, даже не взглянув в глазок, пошел прочь – нам в камере были слышны из коридора его спокойные шаги.
Так – через Сашку – он сквитался с Фулевым, балбес!
Я смотрел на арестованных. Никто из них, даже этот Фулевый, не поднялся помочь своему сокамернику, этому семнадцатилетнему мальчишке. Сашка катался по полу, держась двумя руками за пах, хватая воздух раскровавленным и безмолвно кричащим ртом, а они, сидя на нарах, просто смотрели на него, как в цирке. В нудной камерной жизни это зрелище было для них тоже развлечением.
Я выпростал из джинсов рубаху, оторвал кусок, подошел к бачку с водой, хотел намочить, но оказалось, что бачок пуст, и тогда я просто нагнулся к Сашке и куском рубахи стал вытирать ему кровь с лица.
– Уйди, сука! – вдруг крикнул мне Фулевый.
Этого я, конечно, не ожидал, удивленно повернулся к нему.
– Отойди от него! Убери руки, наседка!
– Ты что, сдурел, что ли? – спросил я.
Фулевый встал с нар, подошел ко мне вплотную, и я видел, как он то ли жует что-то во рту, то ли еще непонятно зачем двигает желваками, а когда я сообразил, что он просто собирает слюну, было уже поздно – он вдруг сочно и звучно харкнул мне прямо в лицо.
Ну, такого еще не было! Я потерял контроль над собой, забыл, что я – столичный журналист и так далее. Тем же милицейским приемом – коленом в пах – я достал этого Фулевого, и когда он от удара согнулся, как Сашка минуту назад, я двумя кулаками еще долбанул его по затылку. Падая, эта скотина ухватила меня за ноги, и мы покатились по заплеванному полу камеры – он пытался меня укусить, а я вытирал свое лицо о его свитер, выворачивал ему руку и не знаю, чем бы кончилась эта драка, если бы в этот момент не распахнулась дверь. Два новых милиционера ворвались в камеру, схватили нас обоих – меня и Фулевого – и потащили мимо улыбчатого старшины в комнату для допросов. Только на этот раз это была другая – без окон – комната, и там, в глухих бетонных стенах, украшенных портретами Дзержинского и Калинина, эти двое стали профессионально-умело избивать нас.
Я получил сразу три оглушительных удара – в челюсть, в печень и снова по уху, и рухнул без сознания, а Фулевый, кажется, продержался чуть дольше, не помню, знаю только, что нас обоих облили водой, заставили встать и «помириться». Мы стояли друг против друга, шатаясь, а милиционеры, резвясь, диктовали нам:
– Скажи: «больше бить не буду, клянусь!»
Я молчал, скорей не потому, что не хотел сказать, а потому, что не мог выговорить и звука разбитой челюстью. За это я тут же схлопотал от них еще один удар по уху, снова скопытился на цементный пол, снова облили меня водой и подняли, и я затуманенным мозгом, как сквозь слой воды, услышал, что Фулевый прохрипел:
– Б-больше б-бить н-не б-буду…
– Клянись матерью! – приказали ему.
– Клянусь…
– Теперь ты! – ткнули меня.
Я промычал что-то распухшими губами, но они не удовлетворились, заставили промычать внятней. И только после этого нас обоих снова волоком оттащили назад в камеру, бросили не на нары, а просто за двери на пол.
Мы лежали рядом, и теперь Сашка Шах куском моей рубахи утирал наши окровавленные лица, но я уже мало что соображал, я отключился в полусон-полузабытье и пришел в себя, может быть, часа через два-три. В камере уже горела лампочка, убранная под потолком в решетку. Я лежал на нарах – не знаю, кто перетащил меня сюда с пола. Надо мной сидел Сашка Шах и переругивался с Фулевым. Сквозь боль во всем теле и полусон я слышал их голоса.
– Был бы он стукач, они б его не били… – говорил Сашка.
– Бьют и осученных, – отвечал Фулевый. – Чтоб им верили.
– Может и бьют, но не так. Ты что?! Смотри, что с ним сделали.
– Ну, хрен его знает… – произнес Фулевый. – Только чего он к тебе кинулся кровь вытирать. Рубашку свою порвал, прямо театр устроил. Я и решил, что он наседка. За что его взяли?
– Ну, так ты ж даже не дал спросить…
– Да-а, лажа вышла. Есть курево?
– Его же сигареты курим. Одна осталась.
Тут я понял, что они вытянули у меня из кармана сигареты, и курить захотелось ужасно, и я прохрипел шепотом:
– Курить…
Сашка поднес мне к губам свою свою сигарету, я затянулся жадно, глубоко, и словно что-то давящее отпустило душу. Я открыл глаза.
– Ты кто? – спросил Сашка. – За что взяли?
Я не отвечал, курил.
– Слышь? – сказал Сашка, но я опять молчал.
– Слушай, друг, – тронул меня Фулевый. – Я думал, ты – тихарь, падло буду. Но они тебя так отделали – хуже меня. Так что я – твой должник. За что тебя взяли? Тут пятнадцатисуточники сидят, «по мелкому», можно на волю письмо передать, тебе нужно?
– Угу, – промычал я. – Нужно.
– Эй, бухгалтер! – Фулевый толкнул в бок спящего рядом мужика лет пятидесяти, типичного алкаша, и тот проснулся испуганный и заискивающе готовый на все. Фулевый приказал ему:
– Пиши. – И сказал мне: – Говори, у него башка светлая, он – бухгалтер, все запомнит. Запомнит и завтра на работе черканет, куда тебе надо. Они его на на работу водят отсюда. Ты диктуй, он запомнит.
Я понимал, что тем самым Фулевый хочет меня проверить еще раз, но теперь мне было уже наплевать на него, пора было выбираться отсюда, доигрался в погружение в жизнь, идиот!