— Ну да… если это можно так назвать.
Он засмеялся. В смехе этом слышалась самоирония, но и добродушие тоже. Он добрый мальчик, подумала Кристина и наклонилась к нему:
— И поскольку с парнем в Упсале ты получил больше удовольствия, чем с этими девушками, ты решил, что ты гей?
— Как тебе сказать… не совсем, но….
— Очень многие в молодости бисексуальны. Постепенно человек выбирает то или другое, вот и все. Это как выбирать профессию. Или машину… У кого есть «бугатти», тому «роллс-ройс» не нужен.
— «Бугатти» и «роллс-ройс»… — Он опять засмеялся, но на этот раз с оттенком грусти. Его глаза были совсем рядом, ресницы слегка подрагивали. — Нет, Кристина, я определенно гей. Спасибо тебе, что ты пытаешься лить бальзам на рану, но это дела не меняет.
Она не отводила взгляда. Прошло несколько секунд. Всего несколько секунд, но что-то изменилось. Ей было очень странно сидеть, уставившись в голубые глаза племянника, в нескольких десятках сантиметров от нее. Вдруг ей показалось, что комната теряет свои очертания, над ними словно вырос прозрачный стеклянный купол, что-то вроде кувеза для новорожденных. Внезапно спали все оковы.
Что я делаю? — подумала она. Пытаюсь украсить пьянку сексом?
— Положи руку мне на грудь, Хенрик.
Он не шевелился — оробел, что ли?
— Ты же видишь, на мне нет лифчика. Положи руку мне на грудь. Пожалуйста.
Он подчинился. Помедлив, расстегнул пуговичку и положил ладонь на обнаженную грудь. Сосок немедленно напрягся и стал твердым.
— Что ты чувствуешь?
Он не ответил. Рука его слегка дрожала. Или это ее собственная дрожь передается на его руку? А почему я должна остановиться? Что еще за полумеры? Она положила руку ему на лобок и почувствовала знакомое шевеление. Эрекция пришла мгновенно. Что я делаю? — мысленно вскрикнула Кристина. Чем я занимаюсь?
Но она не обратила внимания на внутренний голос.
— А знаешь, у меня есть еще одна грудь, — прошептала она. — Не забудь и ее…
Он послушался.
Кристина расстегнула его джинсы и сунула руку в пах, отведя трусы в сторону:
— Что ты чувствуешь?
Хенрик молча проглотил слюну. Он так и смотрел ей в глаза, словно там была какая-то нить и этой нитью она управляла всеми его поступками. Он продолжал ласкать ее грудь, а она стянула его трусы вниз, положила руку на его раскаленный, едва ли не звенящий юношеский жезл и нежно, едва касаясь, погладила. Его дыхание стало тяжелым.
— Боже… — произнес он, и закрыл глаза.
— Вот именно, — шепнула Кристина.
Роберт решил сделать круг по стадиону. Прежде чем доставать телефон. Последний круг.
Дождь начался опять — мелкий, ледяной, даже не дождь, а изморось, он лежал на волосах и лице тонкой траурной вуалью, но Роберту по-прежнему не было холодно. За последние пятнадцать минут ему не встретился ни один человек, только пронеслись две машины, да еще бродячая кошка окинула его загадочным, оценивающим взглядом.
Более одиноко человеку быть не может, пробурчал Роберт про себя, выходя из ворот стадиона, — странно, эта мысль показалась ему утешительной. Словно бы он тонул, тонул — и наконец опустился на самое дно. Именно здесь и сейчас, декабрьской ночью на стадионе в Чимлинге.
Он достал мобильник. Без девяти минут два.
Остановился, глубоко вдохнул и зажег сигарету. Заглянул в пачку — осталось всего две штуки.
Она взяла трубку после третьего сигнала:
— Слушаю.
— Жанетт?
— Да, это я.
Она говорила трезво и уверенно, даже подумать нельзя, что он ее разбудил. Не спала она, что ли? Впрочем, некоторые так умеют: разбуди его, а он начинает говорить, как будто продолжает речь на собрании. Голос с приятной, теплой хрипотцой. В мозгу мелькнула странная фраза, которую он тут же и обнародовал:
— I’m your long lost lover and there’s snow on my hair..} — Он остановился и извинился. Откуда выплыл этот стих? — Это Роберт. Роберт Германссон. Я знаю, что время неподходящее, но никак не могу заснуть… и если ты все еще…
— Приходи, — просто сказала она. — Я тебя жду.
— Я не имел в виду, что…
— Просто приходи, — прервала она его. — Я тебя уже пригласила, и к тому же не спала. Ты знаешь, где я живу? Фабриксгатан, 26.
— Да. Ты говорила. А код?
— Девятнадцать — пятьдесят восемь… Ты где?
— На стадионе.
— На стадионе? Что ты делаешь на стадионе в два часа ночи?
— Гуляю. И подумал о тебе.
— Вот и замечательно. Оттуда не больше десяти минут. Я ставлю чайник. Или хочешь вина?
— Чай — это замечательно.
— All right. И то и другое. Жду тебя, Роберт. Девятнадцать — пятьдесят восемь.
Она нажала кнопку отбоя, но он по-прежнему слышал отзвуки ее голоса. Вдруг Роберту показалось, что он где-то слышал этот голос. Не только тогда, когда она неделю назад звонила ему в Стокгольм, а раньше, намного раньше… Сунул телефон в карман, щелчком отшвырнул недокуренную сигарету и решительным шагом направился на Фабриксгатан.
На ней не было ничего, кроме трусов и платья, — доступность почти стопроцентная. Но когда рука его проникла между бедер и коснулась нежной, мгновенно увлажнившейся промежности, Кристина встрепенулась и высвободилась из его объятий.
— Подожди, Хенрик, — прошептала она. — Нельзя терять голову. Мы не должны ранить других людей.
— М-м-м… — простонал Хенрик.
— Но если хочешь, пройдем этот путь до конца. Надеюсь, ты обратил внимание, что я женщина?
— Да… ты — женщина, — согласился он хрипло. — Поэтому…
Он сделал попытку продолжить любовную игру, но она оттолкнула его, встала и поправила платье и трусы. На часах пробило два, хриплый бой так и остался висеть в комнате как суровое напоминание о существовании другого мира, вне этого дивана. Тысячи, подумала Кристина, тысячи и тысячи парализующих обстоятельств работают против них… стоит только начать о них думать.
— Завтра ночью, Хенрик. Завтра вечером Якоб уедет в Стокгольм. Если захочешь, приходи в отель.
— А как…
— Кельвин? Кельвин не проснется. Не волнуйся… я хочу научить тебя кое-чему в любви. Самому главному…
— Боже милостивый, — снова вспомнил Хенрик о существовании высшей власти. — Я не понимаю…
— Что ты не понимаешь?
— Мы сидим здесь… ты и я… Кристина?
— Да?
— Что значит «самому главному»?
— Искусству отсрочки. Сладкой боли оттягивания наслаждения. А сейчас разбежимся: мне пора в отель, к мужу и ребенку.
— Кристина, я…
Она приложила указательный палец к его губам, и он замолчал. Она взяла его руки в свои, поцеловала обе ладони и встала. Ее немного качнуло, но она овладела собой:
— Не провожай меня. Увидимся завтра.
Странный дождь… мелкий и в то же время сильный, словно мягкая текучая шапочка над головой, пришло ей в голову странное сравнение. Она шла по Йернвегсгатан. Среди обуревавших ее мыслей доминировали две.
Неужели и в самом деле племянник станет моим любовником?
И: добром это не кончится.
Третья мысль возникла, как только она открыла дверь в вестибюль отеля: я так распалилась с этим мальчиком, что должна немедленно разбудить Якоба и заняться любовью.
Уже двадцать минут третьего, но какое это имеет значение?
Карл-Эрик Германссон проснулся без четверти четыре — у него словно что-то щелкнуло в голове.
Раньше этого никогда не случалось. Никогда и ничего в голове у него не щелкало, и никогда он не просыпался среди ночи — обычно «спал как пень» до без четверти семь. И в выходные, и в будни.
Хотя какие теперь будни? Сплошные выходные. Придется научиться с этим жить.
Никогда уже не надо будет по утрам спускаться в гараж, доставать свой трехскоростной «Crescent»[27] и крутить педали: тысяча триста пять метров до школы в Чимлинге. Никогда уже не придется элегантным жестом выудить из кармана связку ключей, привычно найти нужный и жестом пригласить стайку невыспавшихся школьников в сто двенадцатый класс. Никогда уже не надо будет на память цитировать обращение Марка Антония к народу пятнадцатого марта сорок четвертого года до Рождества Христова.
Сплошные выходные. Нескончаемый ряд утр, когда он может до полудня валяться в постели, а остаток дня посвящать чему угодно, что в голову взбредет. Райское существование после целой жизни упорного труда и освоения новых учебных планов.
Но почему он проснулся без четверти четыре? И что это щелкнуло у него в голове? И что это за странный шипящий звук? Хотя это, скорее всего, батарея отопления. Со стороны жены. Наверное, потихоньку подкрутила ее, как обычно.
И все же что-то случилось. Странное беспокойство. Никогда ничего подобного не было. Что это с ним?
Странно, вдруг вспомнил он, говорят, что люди чаще всего умирают именно в этот час: от трех до четырех утра. Судьба гасит огонек жизни именно в тот момент, когда он еле теплится. Где-то он это читал, так что это не только болтовня суеверных баб. Что же это может быть?..
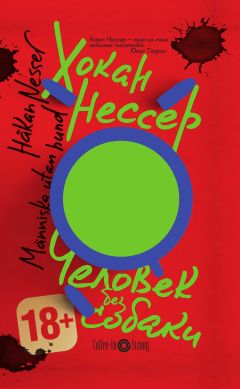

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

