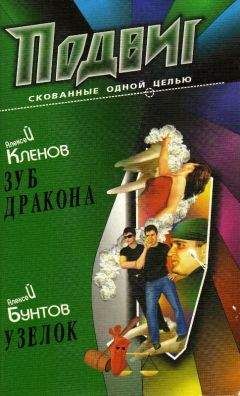— И это все, что пришло тебе в голову? Степанов, да ты еще больший дурак, чем я думала…
Ни слова больше не говоря, она ушла, а я оскорбленно пробурчал ей вслед:
— Чертова кукла… Строит из себя…
В учительской, к счастью, никого не было. Видеть мне никого не хотелось, и еще меньше хотелось с кем-либо говорить. Наверное, это проскользнуло у меня в голосе, потому что когда я взял трубку и сказал: іМама, это я…і — она сразу же спросила:
— Игорек, ты чем-то расстроен? Что случилось?
Немного приободрившись, я попытался успокоить ее:
— Нет, ма. Ничего. Все нормально. Ты зачем звонишь? Зайти в магазин после уроков?
Мама неожиданно рассердилась на мою плоскую шутку:
— Сын! Перестань язвить! Ты же прекрасно знаешь, что мне тяжело подниматься без лифта на седьмой этаж. И потом, с каких это пор ты стал меня обманывать? Что у тебя в комнате творится? Кругом окурки, пепел, бутылка пустая валяется… Прямо притон какой-то. Что это значит? Я не узнаю тебя…
Все правильно. Телеграмму Наташкину маме я не давал читать, и потому моя выходка ей совершенно непонятна и необъяснима. Ну, пусть так все и остается.
— Мама, у меня всю ночь болел зуб, и я решил применить испытанное народное средство.
Мама тяжело вздохнула на мою слабую попытку оправдаться:
— Ах, сын, сын… Ты так и не научился врать, как и твой отец… Телеграмму от Наташи ты оставил на самом видном месте, а я любопытна, ты это знаешь.
Почувствовав, как у меня заполыхали щеки, я прикрыл трубку ладонью и несколько секунд усмирял сбившееся с ритма дыхание. Трубка что-то говорила маминым голосом, а я тупо смотрел в окно, чувствуя, как глаза начинают жечь подступающие слезы. Подавив в себе животное желание закричать и биться головой о стекло, я поднес трубку ко рту и сказал более или менее ровно:
— Не будем об этом, мама.
Видимо, тон у меня был более чем категоричен, потому что мама, против обыкновения, сразу согласилась:
— Хорошо, Игорь. Только без глупостей, обещаешь?
Я даже нашел в себе силы усмехнуться:
— Ма, за кого ты меня принимаешь? Неужели ты думаешь, что я способен застрелиться или повеситься от неразделенной любви?
— Игорь! Пить ночами — это не меньшая глупость! Так недолго и совсем опуститься. Потому я тебя и прошу — никаких фокусов. Обещаешь?
— Хорошо, ма, обещаю. Ты за этим звонила?
— Нет… Вернее — да… Запутал ты меня совсем, у меня уже из головы вылетело. Ах, да, вспомнила. Зайди по пути домой на почтамт. Надо заплатить за телефон. И сегодня, наверное, будут пенсию давать. У тебя с собой доверенность?
— Да, с собой.
— Так зайдешь?
— Хорошо, мама, зайду.
Помолчав, мама не очень решительно попросила:
— И еще, Игореша… Ты, конечно, прости меня, но… Не хочешь ли ты дать телеграмму Наташе? Ну, я не знаю… Потребовать объяснений, помириться… Ведь нельзя же так…
Стараясь говорить бесстрастно, я ответил:
— Мы не ссорились, ма… И телеграмму я уже давал, а от повторения притупляется острота восприятия. И все, мама, хватит об этом. Вопрос считаем исчерпанным. Мне пора идти, целую. До вечера.
Я положил трубку и вдруг почувствовал такую опустошенность, что выть захотелось. Мамин звонок как будто точку поставил в Наташкиной телеграмме. Если до сих пор все еще имело какой-то оттенок нереальности происходящего, и я, какое-то время, еще мог себя тешить иллюзиями, то теперь все окончательно стало на свои места. Все это было в действительности, увы. И телеграмма, и бессонная ночь… Мир перевернулся с ног на голову, да так и остался стоять. Беда только в том, что никто, кроме меня, этого не замечает, а стало быть вниз головой стою только я в трогательном одиночестве. И бороться со всем этим не имеет смысла. Все четко и определенно. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Несколько минут я сидел совершенно разбитый, хотя звонок уже прозвенел и мне надлежало быть в классе. Сидел и с ужасом чувствовал, как силы покидают меня и желание жить подменяется тупой биологической обреченностью поддерживать видимость существования. Наконец, взяв себя в руки, я тяжело поднялся и по-стариковски зашаркал к выходу. Жизнь, несмотря ни на что, продолжается, желаю я того или нет…
Сославшись на плохое самочувствие, я отпросился с педсовета.
Дорога окончательно доконала меня. Бурлящие остановки, переполненные троллейбусы, ругань и пихание локтями довели меня до белого каления. Поражаясь, как это я никому не дал по физиономии от распирающей меня злости или, на крайний случай, никого не облаял в ответ на несправедливые упреки, я вывалился на конечной остановке и подумал, что нашел, пусть частичное, но все же объяснение Валькиной озлобленности. Меня даже такая мелочь взбесила настолько, что я едва сдерживаюсь, а ведь ему пришлось гораздо худшее пережить. В целом люди, конечно, неплохие создания, но в определенных ситуациях с ними дел лучше не иметь.
Самым страстным моим желанием в эту минуту было желание зарыться головой в подушку, как в детстве, от незаслуженных обид и никого не видеть и не слышать… Но передо мной стояло еще одно, я надеялся, что последнее испытание. Три раза глубоко вздохнув, я собрался с духом, насколько это было возможно в моем положении, и решительно зашагал к почтамту.
Почтамт встретил меня сдержанным гулом и напряженностью не меньшей, чем в транспорте. Тоскливо взглянув на очередь, почти сплошь состоящую из пенсионеров, я обреченно вздохнул и пошел поинтересоваться: есть ли мне смысл стоять?
Сидящая за стойкой кассирша, моложавая особа лет тридцати с небольшим, красная и распаренная, швыряла на барьер пенсионные карточки и грубо выкрикивала:
— Удостоверение… Следующий…
Судя по всему, она тоже была доведена до предела суетой и психозом. Но мой рабочий день уже закончился, а ее был в самом разгаре. Прекрасно понимая ее состояние, я решил быть тактичным по отношению к ней и потому спросил достаточно вежливо:
— Скажите, пожалуйста, за восьмое число я могу получить?
Не поднимая головы, кассирша отрезала:
— В очередь.
Пожав плечами, я промурлыкал еще нежнее:
— Простите, девушка. Вы не поняли. Я только хотел узнать, смогу ли я…
Подняв голову от стола, эта веснушчатая мегера диковато взглянула на меня и заверещала:
— Я же сказала — в очередь! Ты что — тупой?! Что еще непонятно? Всем сегодня дадим, не мешайте только работать спокойно.
Я еще попытался сохранить состояние душевного равновесия и потому, пропустив ітупогоі мимо ушей, спокойно спросил:
— А по доверенности?
Чертова баба прямо-таки взбесилась от моего спокойствия. Я уже много раз замечал: почему-то таких психопаток больше всего бесит именно спокойный тон. Вскочив на ноги, она заорала на весь почтамт:
— Я же тебе сказала — в очередь!!! Посмотри, сколько народу, и все стоят и молчат. Один ты самый умный! Отойди и не мешай работать.
Похоже, что крик принес ей некоторое облегчение. Она грохнулась обратно на стул и с остервенением стала перебирать карточки. На меня зашикали из очереди, стали дергать за рукав и осыпать со всех сторон упреками. Я зло процедил сквозь сжатые зубы: іДура набитая…і — протиснулся в конец очереди и спросил:
— Кто будет последний?
Одна из старушонок обернулась:
— За мной будешь, милок. Чего же это ты в неурочный час ей под руку лезешь? Маринка, она баба злющая, слов нет. Дак ведь тоже понять можно: попробуй-ка вот так весь день с нами, одна-то. А ты че же такой молодой да за пенсией? По инвалидности, али как?
Словохотливая бабка действовала мне на нервы, и я нелюбезно отрезал:
— Дурак я, бабка. С головой у меня не в порядке, поняла? А иной раз, знаешь, башку как заломит, как заломит… Так у меня припадок случается, и буйный я становлюсь до неприличия…
Бабка смотрела на меня испуганными глазенками и, чувствовалось, сама уже была не рада, что заговорила со мной. Я усмехнулся.
— Ты вот что, старая. Мне отойти нужно, во-он туда, видишь? За телефон заплатить. Так ты тут скажи, случай чего, что я за тобой занимал, ладненько?
Бабка торопливо закивала седой головой, покрытой старым полушалком. Повернувшись к ней спиной и сделав пару шагов, я услышал ее испуганной бормотанье:
— Господи Исусе, это как же он, сердешный, мается?..
Я подошел к соседнему окошечку с надписью іПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯі, взял бланк и стал его заполнять, машинально повторяя бабкины слова: ікак же он мается… как же он мается…і. Мне вдруг вспомнился этот Вовка-дурачок, который сыграл со мной злую шутку здесь же, на почтамте, два дня назад, и моя нелепая выходка приобрела вдруг какой-то зловещий смысл. И сам не знаю: что меня дернуло за язык сморозить такую глупость?
А каково ему, бедолаге, вот так всю жизнь слушать за спиной сочувствующие вздохи? Мне вспомнилось, как я накинулся на бедного придурка, и щеки невольно заполыхали от стыда. Мне вдруг показалось, что все вокруг узнают меня и тычут мне в спину пальцами, а телеграфистка, сидящая за барьером, поодаль, та самая, что отрывала меня от дурачка, как-то подозрительно и с немым укором смотрит на меня. Нелепое, по сути, ощущение было настолько сильным, что я поневоле обернулся, чтобы удостовериться, что никто не обращает на меня внимания.