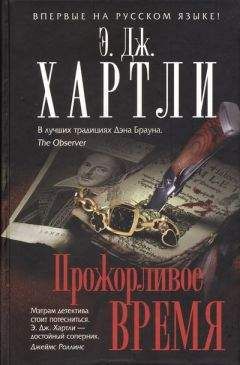Выругавшись, Томас развернулся и поехал в методистскую церковь Хемингуэя в Чикаго, где Бен Уильямс когда-то работал добровольцем на раздаче бесплатного супа беднякам. Служба уже закончилась, и люди группками выходили из церкви. Найт сидел в машине и слушал радио. Он увидел много знакомых ребят, в том числе тех, кто окончил школу лет пять-шесть назад, в основном чернокожих. Неужели прошло уже столько времени с тех пор, как Уильямс больше не учился у него? В это трудно поверить, но так бывает всегда. Томасу исполнилось тридцать восемь, он преподавал в этой школе уже больше десяти лет. Бену Уильямсу было двадцать три — толковый, вдумчивый паренек, пользующийся уважением окружающих, подающий местной бейсбольной команды «Уайлдкитс». Он пошел служить в Национальную гвардию только потому, что это помогало оплачивать обучение в колледже. После командировки в Ирак парень собирался стать учителем, как Томас. Неделю назад пришло сообщение, что Уильямс убит. Подробностей Найт не знал.
Томас преподавал английский язык и литературу в классе, где учился Уильямс. Он забыл, что они проходили в том году. «Юлия Цезаря»? Как только всплыло это название, Найт вспомнил, что так оно и было. Уильямс деятельно занимался постановкой нескольких сцен из пьесы. Воспоминания нахлынули так мощно, что Томас не поверил, как он смог запамятовать постановку, а также обаятельного паренька, бывшего душой всего этого. Уильямс играл Марка Антония. Найт смутно припомнил, что ребята поставили сцену убийства и ее последствия, может быть, даже дошли до прощальных речей. В памяти у него отчетливо запечатлелось только то, как Бен Уильямс обращался к одноклассникам, игравшим римских граждан:
Друзья, сограждане, внемлите мне.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
А хоронить. Ведь зло переживает
Людей, добро же погребают с ними.
Пусть с Цезарем так будет. Честный Брут
Сказал, что Цезарь был властолюбив.
Коль это правда, это тяжкий грех,
За это Цезарь тяжко поплатился.
Здесь с разрешенья Брута и других,—
А Брут ведь благородный человек,
И те, другие, тоже благородны,—
Над прахом Цезаря я речь держу.[1]
Томас был удивлен тем, как хорошо он помнил эти строки, но почти забыл мальчишку, благодаря которому они врезались ему в память.
Двадцать три года. Если бы Найт просто прочитал об этом в газете, не знал бы Уильямса, то прощальная служба вызвала бы гневную тираду об ужасах войны, но сейчас он не испытывал гнева. Было только чувство утраты, бренности бытия. Томас начал было оформлять мысли о растраченном впустую потенциале Уильямса, но тотчас же отбросил их, как штампы. Он хотел ощутить более прочную связь со своим бывшим учеником, но не мог ухватиться ни за что, кроме того монолога из «Цезаря», чтобы сделать образ мальчишки осязаемым. Найт думал об Уильямсе, но чувствовал непосильную тяжесть собственных тридцати восьми лет. В двадцать три года он преподавал в Японии, еще не поступил в аспирантуру, но уже познакомился с Куми, больше того, влюбился в нее. Двадцать три.
«Странно, что такая значительная часть того, чем ты являешься, складывается так рано», — подумал Томас.
Он вспомнил все: запах в своей квартире в Японии, ощущение от велосипеда, на котором катался каждый день, восторженное предчувствие встреч с Куми. Это было очень давно, но Томас прочувствовал все так остро, что улыбнулся, словно по-прежнему жил в том времени, его не выгнали из школы, он не разошелся с женой и не обнаружил труп за окном своей кухни. Найт посмотрел на свои руки, лежащие на рулевом колесе. Они были большими, сильными. Но кожа на них стала грубее, чем была когда-то, не такой гладкой. Оглянувшись на церковь, Томас прикинул, не похожа ли смерть бывшего ученика на утрату собственного ребенка.
«Поразительно, как много всего ты о себе сочиняешь», — подумал он, а вслух произнес:
— Такова природа зверя.
«А кто у нас „зверь“?»
Наверное, жизнь.
Томас сидел, мысленно прокручивая все, что смог накопать в памяти о Бене Уильямсе, и смотрел на ребят, которые рассаживались по машинам и желтым школьным автобусам, в то время как бывшие одноклассники Бена Уильямса трепали друг друга по плечу, пожимали руки и давали слово держать связь.
К вечеру утренний кошмар уже казался ему чем-то бесконечно далеким, и Томас, возвратившись домой, ничуть не удивился, никого там не застав. Единственным свидетельством расследования было обилие желтой ленты, предназначенной не пускать зевак туда, где лежал труп, и полицейская машина в конце квартала. Двое копов в форме ходили из дома в дом. Томас уже почти забыл о случившемся, задвинул все на задворки сознания и старался ни о чем не вспоминать. Но вот он вернулся, и все снова стало реальностью. Проходя по дорожке к входной двери, Найт ощутил, как к нему возвращается былая тошнота.
Войдя в дом, он выпил стакан воды, снял трубку, набрал шестнадцатизначный номер и стал ждать.
— Привет, Том, — сказала Куми.
— Ты больше не говоришь «моси-моси», — улыбнулся он.
— Только не тебе. Ты единственный, кто звонит в такой поздний час.
— Как Токио? — спросил Найт, чувствуя, как звуки голоса Куми спускают натянутую у него внутри пружину подобно горячей ванне.
— Знаешь, как обычно. Государственный департамент хочет привлечь меня к решению вопросов интеллектуальной собственности с Китаем, а я в этом ровным счетом ничего не смыслю.
— Начальство понимает, что ты владеешь японским языком, а не китайским?
— Да.
— В таком случае почему именно ты?
— Понятия не имею. Считается, что я умею общаться с людьми.
— Господи, да начальство тебя совсем не знает.
— Никто не знает меня так, как ты, Том, — сказала Куми, как всегда насмешливая. — По крайней мере, некоторые мои стороны видишь только ты.
— Хотелось бы надеяться.
— Я имела в виду совсем другое. У тебя образ мышления…
— Студента-первокурсника?
— Пожалуй, — согласилась Куми. — Ты не староват для этого?
— Возможно. Но иногда мне кажется, что по-настоящему я знал тебя только тогда, когда мне было двадцать.
Ему покаталось, что он услышал, как Куми вздохнула Несколько лет они были в ссоре, причем яростной, а теперь, по крайней мере, снова разговаривали друг с другом. Быть может, между ними сохранялось нечто большее, но говорить об этом со всей уверенностью было трудно. Все это время они оставались мужем и женой хотя бы формально.
— Как твои занятия? — спросил Томас.
Куми решила, что, поскольку ей придется пожить в Японии, можно будет заодно и прикоснуться к культурному наследию. Она записалась на курсы по трем предметам: карате, традиционная японская кухня и икебана. Именно искусство расставлять цветы отправилось к черту первым.
— Эти женщины сводили меня с ума, — объяснила тогда Куми. — Все должно быть именно так. Сделать это можно только одним способом. Они втыкают в горшок две бамбуковые палочки и цветок камелии, а ведут себя при этом так, словно обезвреживают боеголовку тактической ядерной ракеты. Они смотрели на меня и говорили: «Это неправильно». Неужели? Речь шла о расстановке цветов! Я вынуждена была бросить все, пока никого не убила.
Этот разговор велся две недели назад.
— Не знаю, как долго еще продержится карате, — сказала Куми сейчас. — Тренеры говорят, что я слишком агрессивная и не могу сосредоточиться.
Томас фыркнул.
— Смейся-смейся, учитель английского языка, — обиделась Куми. — Вот я вернусь и надаю тебе по шее.
— Когда? — тотчас же спросил Найт.
— Когда научусь закручивать суши. Это у меня получается лучше. Дзен-буддизм гораздо понятнее, когда ты готовишь булочки с рисом и водорослями, не получая при этом ногой по голове. Сам прикинь.
— Послушай, у меня кое-что случилось, и мне нужно поговорить с тобой.
Он рассказал о мертвой женщине. Куми задавала правильные вопросы до тех пор, пока у него не закончились ответы, после чего наступила тишина. Тогда Томас рассказал о поминальной службе по Бену Уильямсу.
— Что-то не припомню, чтобы ты упоминал о нем, — заметила Куми.
Это было сказано без критики, но Томас ощетинился:
— Ты со мной тогда не разговаривала, забыла?
— Нужны двое, чтобы… Не знаю, — сказала она. — Кажется, в пословице говорится про танго.
— Верно, — вынужден был признать Томас.
— Извини, Том, но я не смогу приехать в Штаты прямо сейчас.
— Понимаю, — произнес Найт, радуясь тому, что Куми хотя бы задумалась над такой возможностью. — Я сам не могу сказать, что подействовало на меня сильнее, убийство или поминальная служба. Бедняге Бену было столько же лет, сколько мне, когда мы с тобой познакомились.