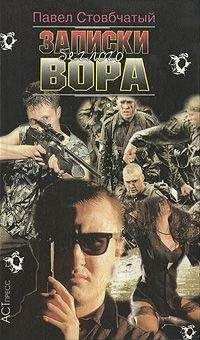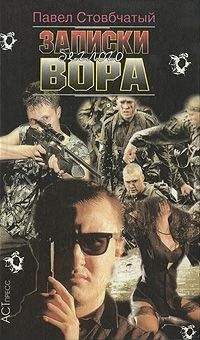В конце концов, мне не так уж плохо жилось в зоне, если не считать времена, когда я сидел под замком в камере. Я давно привык к размеренной и монотонной лагерной жизни, а деньги, которые я успешно наигрывал месяц за месяцем, позволяли мне иметь в зоне то, чего не имели многие вольные. Единственное, чего мне не хватало, так это баб, но и их я умудрился поиметь несколько раз за последние пять лет. «Трешницы» смотрелись здесь на десятку и пахли, как настоящие королевы, хотя были слегка грязны и замызганы, как и подобает дешевым шлюхам.
Из открытой форточки рядом с нами вылетела пустая консервная банка и шмякнулась о кирпич. Неприятный звук снова вернул меня в реальность. Гадо встал, я тоже.
— Не бойся. Смерть не так страшна, как кажется, — сказал он и похлопал меня по плечу. — Ты немного моложе меня и не думал об этом как следует. Просто исчезновение мысли, и все. Тело как бревно… Остается гнить, а тебя нет. Ты — это твои мысли, мышление, но не тело. Нет мыслей, нет ничего. Мы не подохнем, верь мне. Я знаю, тебя интересует, зачем я беру тебя с собой… Вдвоём проще. Ехать тебе некуда, мы будем идти к одной цели, вот и все. Не оставляй никаких записок приятелям, узнают и так.
Гадо ещё раз пристально посмотрел мне в глаза и пошёл мимо, в сторону своего барака.
* * *
До восьмичасового вечернего развода на работу оставалось четыре часа с лишним. Я вернулся в барак, но никак не мог сосредоточиться и прийти в себя после состоявшегося разговора. Благо дело, мои приятели были на бирже и никто не мог спросить меня, о чем я толковал с Гадо почти час. Им наверняка показалось бы это странным, а мой уклончивый и невразумительный ответ ещё больше бы заинтриговал их. Мы знали друг о друге почти все, и ни одна деталь не проходила мимо наших глаз просто так. Лагерь, как ничто, учит человека подмечать все и сразу, если ты не лох и претендуешь на место под солнцем в этом темном царстве теней. Я прилёг на койку, но долго пролежать не смог. Через какие-то считанные часы мне предстояло лезть под пули, которые оставляют огромные дыры в теле на вылете!
Я знал это только из рассказов очевидцев, но сам никогда не видел этих дыр. Мне не хотелось думать о страшном, я попытался переключиться, однако ничего не вышло. Мысли вновь и вновь возвращали меня к сердцу, как будто именно оно, а не другой орган должно было разлететься на куски от прямого попадания охранника. Я вспомнил слова Гадо, его замечания о смерти и не нашел в них ничего утешительного. Возможно, я действительно еще не дозрел, не дорос до естественного и спокойного восприятия этого заключительного акта всякого существования. Ха! Ведь это только его слова, а как он чувствует и думает на самом деле?.. Или как он будет думать завтра, через месяц? В человеке все ежесекундно меняется, как в игре, и то, что греет сегодня, завтра буквально заморозит до основания. Я уже это проходил. В этой жизни нельзя никому верить, ибо точно не знаешь, какая вера будет завтра в тебе и что ты увидишь одними и теми же глазами.
Он ошибся, я думал о смерти не раз, еще как думал! О собственной и о чужих, об убийствах и призраках… Я даже читал литературу об этом, которая после перестройки хлынула в лагеря потоком. Умирать легко только под наркотой либо вдрызг пьяным. Но я принципиально не употреблял наркотиков, из честолюбия и по причине неминуемой зависимости, которая появляется в процессе, когда ты входишь в «систему». Настоящие блатюки не уважают наркошей, они умны, они правят, а не опускаются до уровня раба кайфа. Я хотел править этой «дикой дивизией» отпетых живодёров и дебилов с претензией на блат, которые даже не догадывались о том, что они всего лишь пешки и шестерки в большой игре… Они стремились к блату и званию вора в законе, как глупые мотыльки, летящие на огонь. Они не понимали, что Вором нужно родиться, им казалось, что таковым можно стать, приложив немного сил и хорошенько изучив «понятия». О, как они были наивны, эти молодые и старые идиоты, верящие в земную справедливость и какую-то особую, нашу правду!
Я никому не высказывал своих потаенных мыслей — это было слишком опасно, но зато меня не провел бы на мякине и сам апостол Павел. Я слишком хорошо изучил человеческую, животную породу, чтобы кого-то идеализировать или перед кем-то преклоняться. Всякая тварь, в том числе и я, подвержена влиянию собственной натуры, а мысли и убеждения — ничтожны и изменчивы. Это главное правило жизни я усвоил, как «Отче наш», и не скажу, чтобы оно хоть раз подвело меня на протяжении долгих и нудных лет. Кто-то из двух должен умереть, кто-то из двух должен украсть и обмануть, кто-то должен быть сильнее и опытнее — вот и все, что дано всякому человеку. Не важно, кто из нас умрёт, — природа от этого не пострадает. Важно то, что если не я, то ты, если не ты, значит, я. Мирное, справедливое сосуществование людей возможно только в романах, да и то когда автор глуп как последняя лошадь, жующая свой вечный овёс.
Да, я был анархистом до мозга костей, люто ненавидел всякую власть и государство, а ещё больше презирал мораль и моралистов — этих хитрых ублюдков, толкующих массам о всяких «правильных» химерах.
* * *
Позвав нашего шныря Витю Перца, я велел ему заварить банку чифиря, а сам полез в заначку и быстренько достал из неё свои скромные «сбережения». Денег было не густо, но и не мало с учётом места — девятьсот долларов в переводе на «амэрикен штат». На первое время вполне достаточно. Двести я оставлю своей братве, остальное возьму с собой.
Нужно успеть сбегать в сапожку к знакомому сапожнику и закатать их в подошвы сапог, так надежней. Убьют не убьют, а на какой-нибудь пересылке на полном голяке очутиться можно. Об этом следует подумать уже сейчас. На верхах останется только мелочь, зимбер, по-нашему. Пятьдесят — шестьдесят долларов вполне хватит. Сапоги с меня не сдрючат, шмон не страшен. У Гадо тоже будут деньги, должны быть… Такой тип не понадеется на кого-то, нет, он явно готовился к побегу не один день, что-то наверняка у него есть.
Тяжёлые мысли как-то незаметно отхлынули, а после крепкого чифиря меня и вовсе отпустило. Я смотрел на нары и тумбочки нашей вонючей секции, украдкой окидывая взглядом снующих туда и обратно мужиков, и думал о том, что завтра я, возможно, буду далеко от этого смрада. О, как мне надоели эти рожи и эти погоны! С каким бы наслаждением я забетонировал всю эту проклятую территорию, дабы она ни единым колышком не напоминала о своем существовании! Скоро… Ещё немного — и мои глаза увидят совсем иной мир, в принципе такой же, но более просторный и менее мелочный в своем прекрасном изобилии…
Стрелки на часах завхоза показывали пять сорок пять, до смены оставалось чуть более двух часов.
Покинув секцию, я скорым шагом отправился в сапожку, предусмотрительно прихватив с собой одного молодого огольца, которому отдал деньги. Такого не станут шмонать, а меня могли остановить в любом месте на пути от барака к сапожке. Что-что, а нюх на бабки менты развили, как настоящие псы, и чуяли их за версту.
* * *
Примерно в половине второго ночи я уже был неподалёку от лесозаводского бункера, где мы условились встретиться. Рамы лесозавода работали вовсю и немного оглушали. Я выбрал самое темное место возле пакетов с обрезной доской и на время затаился там. Пространство возле бункера слегка освещалось, нет-нет под него заезжали самосвалы и, приняв порцию опила, следовали к вахте. Все, что мне нужно было сделать в жилой зоне, я сделал и даже успел обойти нескольких своих знакомых, дабы тайком попрощаться с ними и запомнить их навсегда.
Рядом со мной лежал небольшой, но прочный мешок, в котором находились вольные туфли, курево, бритвенные принадлежности и прочая мелочь. Он весил всего несколько килограмм от силы. Брюки, свитер и пиджак я надел под робу и телогрейку. Я был весь в чёрном, таким же был и мешок. Письма и фотографии пришлось сжечь, хотя некоторые — особо памятные и дорогие — сжигать было жаль. Я закурил, прикрывшись ладонями, и стал ждать, пристально всматриваясь в темноту. Минут через пятнадцать на пятачке сразу за бункером мелькнула чья-то тень, потом другая и третья. Я подождал пока «тени» дойдут до входа в лесозавод, и увидел, что они не вошли, а свернули в сторону, туда, где обычно не ходят.
«Это они», — подумал я и, оставив мешок на земле, двинулся туда же. В темноте мне не сразу удалось разглядеть лица сидевших на бревне. Подойдя вплотную, я увидел, что рядом с Гадо сидели Фриц и Пепел — два земляка-приятеля из третьего барака. Оба родом из Краснодара, обоим чуть за тридцать. Я хорошо знал и того и другого, поскольку одно время сам жил в третьем бараке. Публика была еще та, однако ни в чем предосудительном с точки зрения арестантской жизни упрекнуть их было нельзя. Фриц — широкоплечий нагловатый боксер — приехал к нам с усиленного режима, где отрезал голову какому-то зеку, заведующему столовой, который отказался кормить его мясом. За него ему добавили одиннадцать лет, три первые — в крытой тюрьме. Пепел сидел за бандитизм и имел тринадцать лет со свободы. В зоне с ними никто не связывался: все знали, что эти парни «без отдачи» и с дурью в голове. Разумеется, они не принадлежали к когорте «чистой» братвы, тем не менее с ними считались, как с порядочными, даже авторитеты.