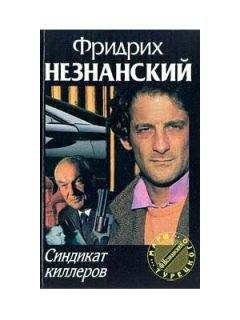«Вот так тебе, старая лиса! Что ты теперь скажешь?»
Сучков намазал кусочек бородинского хлеба маслом, положил сверху лососину, разрезал бутерброд ножом и, отправив в рот, пожевал задумчиво.
Прекрасно... Откровенность за откровенность. Вы, Евгений Николаевич, как я понял, уловили мой намек и оценили его верно. Я доволен. Мы ведь люди дела? Так? А в деле случаются разные нюансы, в том числе не очень желательные. Будем же надеяться, что не все наши желания — неисполнимы. А теперь я хотел бы вам чисто по-дружески прояснить некоторые ситуации, которые складываются в стране. Как говорится, не для печати...
Своеобразная, мягко выражаясь, жизнь в российском бизнесе, в котором Никольский варился с самого начала перестройки, провозглашенной Горбачевым, научила его практически ничему не удивляться. Или, в конечном счете, не показывать своего изумления открыто. Однако то, что он услышал, а точнее понял из доверительного монолога Сучкова, ввергло его, без преувеличения, в оторопь.
Неужели Сучков, партийный функционер со стажем, прошедший огни и воды на всех этапах жестко-поступательной карьеры, сточивший зубы на перемалывании соперников — это ведь искусственные, фарфоровой белизны резцы, обнажаемые в редкой для его лица улыбке, никого не введут в заблуждение, — неужели он в самом деле поверил своему собеседнику до такой степени, что позволил себе подобную откровенность?.. Или это у него точно разработанный план, в котором ему, Никольскому, отводится какая-то особая роль? Могло быть и так: сперва ошеломить своей якобы предельной откровенностью, искренностью, а затем повязать как прямого соучастника. Сперва идеи, а после — действия. Известно же: пока не знаешь — легче жить. А что же теперь?
Определенные силы, округло рассуждал Сучков, больше не намерены терпеть того бардака, в который превращают страну перестройщики-демократы, чьи убеждения и разрушительная деятельность уже открыто и без всякого стеснения финансируются западными спецслужбами.
Поэтому определенные силы, озабоченные трагической судьбой отечества, намерены преградить дорогу распаду, поставить плотину на пути этого почти неуправляемого потока.
— Никто из нас не вечен, — философски, с хмурой усмешкой бросит Сучков. И, помолчав, добавил: — К счастью. А государство не может жить без головы. Пусть для начала и коллективной.
Никольскому не требовалось объяснения по поводу «определенных сил». КГБ, милиция, армия — вот эти строители плотины. Но в первую голову, конечно, партаппарат, партийно-государственная бюрократия, что, в сущности, одно и то же, в чьих руках, несмотря ни на какие перестройки, по-прежнему сосредоточены финансы, промышленность, сельское хозяйство и топливо, иными словами, деньги, заводы и земля с ее недрами, а также силы устрашения и подчинения — следовательно, власть.
Так что же, Сучков, словно бы между прочим, предупреждал Никольского о готовящемся государственном перевороте? Иначе какой иной смысл он вкладывает в свою «плотину»? Или во фразу, что придет пора разбираться, кто был с кем? Ведь только так, однозначно, и можно оценить откровения первого заместителя премьер-министра. И не считает ли уже этот Сучков, что надолго, если не навечно, привязал к себе собеседника? Неужели он абсолютно уверен, размышлял Никольский, что я не способен ударить во все колокола? Правда, кто ж этому поверит... Или у него припасено еще нечто этакое, что должно заставить меня запереть свой рот накрепко?..
...Никольский дождался. Уже возле камина, куда Арсеньич подкатил на сервировочном столике чашечки кофе по-варшавски, со взбитой пеной, за прощальной, так сказать, сигаретой. Сучков вдруг, словно не к месту, вспомнил забытый случай из прошлой своей практики, когда одного вполне приличного, даже видного человека в буквальном смысле затравили в прессе, а потом посадили в тюрьму, где отдали на потеху уголовникам. А вся вина его заключалась лишь в том, что он не разобрался в ситуации, попер против своих бывших коллег, разумеется не совсем чистых на руку, и попробовал устроить благовест областного масштаба. Даже он, Сучков, обладая в те годы огромной властью, ничего не смог поделать и ничем не сумел помочь. Против строптивца были выдвинуты такие обвинения, собран такой компромат, что, пока суд разбирался, отсеивая крупицы правды от гор лжи, несчастный не дождался справедливости и сгинул. Был потом оправдан, но посмертно. И ведь не в страшные сталинские времена произошла эта трагедия, а в наши годы, в брежневские...
Сучков докурил сигарету, ткнул ее небрежно в бронзовую раковину, допил свой кофе и, поднимаясь из кресла, по-отечески многозначительно потрепал Никольского по колену.
— Вот так-то, дорогой вы мой, — вздохнул он и огорченно пожал плечами. — Ну что ж, спасибо, как говорится, за чай и сахар, уважили вы старика...
— Да какой же вы старик, Сергей Поликарпович! — преувеличенно бодро отозвался Никольский. — На таких, как вы, наше государство еще долго будет, извините, воду возить... Нагружать сверх меры... — а сам подумал: о Господи, помоги, чтоб и вправду сбылось!
— Скажете тоже, — самодовольная улыбка озарила тяжелое лицо Сучкова. — Но мы еще в силе. В силе. Хоть выправка у меня не та, что у вас, не та... А знаете, Евгений Николаевич, черт с ним, в конце концов, с этим здоровьем! — и он, будто в сердцах, отмахнулся от неведомого запрета. — Так и быть, давайте стремянную! Есть у меня к вам одно личное предложение.
— С удовольствием, — стараясь не выдать своей некоторой растерянности, согласился Никольский.
Они вернулись в столовую, хозяин налил пару рюмок и одну протянул Сучкову. Тот зачем-то посмотрел ее на свет, повертел за ножку и сказал:
Давайте за наш хороший сегодняшний разговор. За доброе знакомство. И еще, поскольку я постарше буду, не сочтите за бесцеремонную навязчивость, ради Бога, просто у меня давний обычай: тех, которые мне душевно близки, предпочитаю называть на «ты». Может, от старых наших, еще комсомольских времен идет. Так вот, давайте, Евгений Николаевич, если не возражаете, на «ты» выпьем. Чтоб все у нас в дальнейшем по-простому было, по-свойски. И без околичностей.
Они чокнулись и выпили.
— Для тех, кого люблю и уважаю, — с несколько ненатуральным хвастовством продолжил, поставив рюмку, Сучков, — я всегда открыт. Как тот Чапаев, помнишь? Я чай пью — приходи и ты, садись и так далее. Потому и ты, Евгений, не стесняйся. Для тебя я всегда на связи. А дел у нас много... Ах, какие, брат, дела предстоят!.. — В тоне его мелькнули мечтательные нотки. — Будешь звонить?
— Как прикажете...
— Ну вот! — будто огорчился Сучков. — Мы ж договорились на «ты». В домашних, так сказать... Ладно, пойдем, проводи гостя. Я там тебе небольшой сувенирчик на память припас.
«Вольво» Сучкова уже стояла возле нижней ступеньки широкой лестницы. Спускаясь к машине, он пальцем молча показал Кузьмину, и тот, нырнув в бардачок, достал пакет с фотографиями, поднялся по лестнице навстречу и подал хозяину.
— Вот, Женя, — самодовольно поиграл густыми бровями Сучков, — уж, кажется, каждый Божий день в газетах снимки печатают, привык, притерпелся, а все равно иногда под сердцем что-то нет-нет да екнет. А? Не бывает у тебя? На-ка вот, владей! — И он протянул Никольскому россыпь прекрасно отпечатанных цветных фотографий, которые, как понял Евгений Николаевич, были сделаны на той недавней презентации с банкетом в Киноцентре.
На всех снимках, а их было около десятка, дружески улыбались друг другу, держа по фужеру с шампанским и дымящей сигарете, Сучков и Никольский.
«Неужели у меня было такое счастливое лицо идиота? Я ж не помню даже, чтобы нас фотографировали... Да-а, физиономии-то, честно говоря, не шибко фотогеничные», — без всякого уважения к запечатленным личностям подумал Никольский.
— Я тут тебе, если не будешь возражать, — с легкой, почти незаметной снисходительностью заметил Сучков, —дай-ка на минутку, — он поворошил снимки и нашел нужный, на котором по белому обрезу бумаги была сделана надпись лиловым фломастером: «Е. Н. Никольскому — с дружескими чувствами. С. Сучков». — На держи, а я ведь, как видишь, знал, что у нас с тобой все толком сложится. Что поймем друг друга. Спасибо за хороший прием. — И Сучков ободряюще подмигнул, после чего пожал крепкую ладонь Никольского и сел в машину.
Никольский захлопнул за ним дверцу. Нагнувшись, помахал ладонью и проследил, как «Вольво», а следом и машина охраны одновременно и плавно тронулись к открытым воротам.
И только когда автомобили исчезли за поворотом ограды и Саня стал закрывать ворота, Никольский обернулся к Арсеньичу, стоявшему за его спиной двумя ступеньками выше, и негромко распорядился:
Финансовую группу по первому списку вызывай сюда к девятнадцати. Сейчас три — время есть. А команду — к десяти вечера. Устал я с ним, Арсеньич... Но знаешь, что я тебе скажу? Ох, и дела, кажется, завариваются! И дай нам с тобой Бог головы наши сохранить...