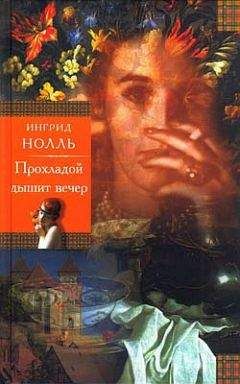Я был не единственный, кто чувствовал себя выпавшим из будничной жизни и ее условностей. В любой момент в небе могли появиться самолеты и сбросить на нас бомбы. Недели через две-три сюда придут немецкие войска, и никто даже представить себе не мог, что будет тогда.
Во время первой воздушной тревоги нам велели лечь на землю рядом с доком: до подземного бомбоубежища, устроенного недалеко от товарной станции, бежать было далеко.
Зенитки открыли огонь. Очереди пронизывали небо над вокзалом. Потом нам сказали, что произошла ошибка: это был французский аэроплан, который не подал установленных сигналов.
Зато в Ла-Паллисе над рейдом пикировали немецкие самолеты: ставили мины вокруг военного корабля «Шанплен». Утром он затонул. Мы услышали взрывы, но не знали, в чем дело.
Позже километрах в трех-четырех от города загорелись резервуары с бензином, несколько дней к небу поднимался черный дым.
Я уже говорил, но все равно повторю: дни проходили быстро и вместе с тем медлительно. Понятие времени изменилось. Немцы вошли в Париж, но в нашу с Анной жизнь это не внесло никаких перемен. Только атмосфера на вокзале преобразилась, становясь с каждым днем все тревожней и суматошней.
Как и в Фюме, я вставал первым и шел на улицу готовить кофе, а заодно и брился перед зеркальцем, которое крепил на парусине нашего шатра. В конце концов часть одного из бараков отвели под туалет для женщин, и Анна шла туда спозаранку, прежде чем набегала толпа.
Мы шли на вокзал, где с нами уже свыклись и приветливо здоровались.
— Много поездов?
— Ждем рабочих с Рено.
Мы уже изучили подземные переходы, пути, скамейки. Не без нежности поглядывали мы на вагоны для скота, где еще валялась солома. Интересно, где теперь наш вагон, в котором, наверное, еще сохранился наш запах.
Ну а чуть позже меня почти всегда требовала г-жа Бош — что-нибудь сделать: отремонтировать дверь или окно, установить новые шкафчики для медикаментов или продуктов.
А потом мы шли за едой. Время от времени шиковали. Заходили в укромный бар, и я, зная вкус Анны, заказывал ей аперитив, а себе за компанию — лимонад.
Во второй половине дня мы отправлялись в город, и я, прежде чем зайти на почту, просматривал списки.
Наш ребенок вот-вот должен был родиться, и я часто задумывался, кто присмотрит за Софи, когда жена окажется в родильном доме.
Странно, но мне так ни разу и не удалось мысленно представить их лица. Черты были какие-то смазанные, нечеткие.
Впрочем, я не особенно тревожился за судьбу Софи: в лагере у нас целую неделю прожили двое детей, потерявших в пути мать, и ничуть не страдали. Они беззаботно играли с другими детьми; и когда мать наконец приехала за ними, на миг смущенно замерли перед ней, словно напроказничали.
16 июня — одна из немногих дат, запомнившихся мне. Петен в Орлеане запросил перемирия, и солдаты, побросав оружие и не слушая офицеров, стали разбегаться с вокзала.
Через три дня немцы были в Нанте. Мы понимали, что их механизированные части передвигаются быстро, и ждали их у себя на следующий день.
Но только в субботу, 22-го, из проезжающих машин нам крикнули:
— Они в Ла-Рош-сюр-Йон!
— Вы их видели?
Водители кивали и мчались к Рошфору.
Следующая ночь была чудовищно жаркая. Анна легла первой, а я стоял, смотрел, как она устраивает себе в соломе лежбище, и чувствовал, что на глаза мне наворачиваются слезы.
Я сказал ей:
— Нет! Пошли.
Анна никогда не спрашивала — куда, зачем. Можно подумать, что всю жизнь она только и следовала за мужчиной, что она рождена для этого.
Мы шли, вслушиваясь в шум моря, в скрип снастей. Может, она решила, что я ищу приют на каком-нибудь корабле?
Я довел ее до конца порта, туда, где находятся всякие склады, а потом мы свернули на дорогу, ведущую прямиком на пляж.
Не слышалось ни звука. В городе не было ни огонька, кроме темнозеленого сигнального фонаря на конце мола.
Мы легли на песок почти у самой кромки несильного прибоя и долго лежали молча, не шевелясь, вслушиваясь в стук наших сердец.
— Анна! Я хотел бы, чтобы ты всегда помнила…
— Тс-с!
Слова ей были не нужны. Она их не любила. Думаю, даже боялась.
Я неловко стал входить в нее, и меня постепенно охватывало нетерпение, чем-то смахивающее на злость. На этот раз она не помогала мне, лежала неподвижно, уставясь мне в лицо, и глаза ее ничего не выражали.
На миг мне почудилось, будто она уже ушла, и я подумал, что она опять одна, словно потерявшаяся собака.
— Анна! — крикнул я ей таким голосом, словно звал на помощь. — Да пойми же ты!
Она сжала мою голову обеими руками и, сдерживая рыдания, прошептала:
— Как было хорошо!
Но она имела в виду не этот раз, а все, что было с нами за эти недолгие дни. Она плакала, и я, лежа на ней, тоже плакал и продолжал обладать ею. А волны уже лизали наши ноги.
Мне хотелось что-то сделать, все равно что. Я сорвал с нее платье, сам разделся. И снова сказал ей:
— Пошли!
Небо было достаточно светлое, и тело Анны вырисовывалось в темноте, но лица я не видел. Может быть, она и вправду испугалась? Решила, что я хочу ее утопить, а то и утопиться вместе с нею? Все ее тело, охваченное животным страхом, сжалось.
— Пошли, дурочка!
Я побежал в воду, и она последовала за мной. Анна умела плавать. Янет. Она уплыла далеко в море, а потом вернулась и стала кружить около меня.
Сейчас я думаю, так ли уж напрасно она испугалась. В ту пору всякое могло быть. Мы попробовали играть в воде, словно школьники на каникулах, но у нас почему-то ничего не получилось.
— Замерз?
— Нет.
— Давай побегаем, согреемся.
Мы бегали по песку, и он липнул к ногам.
Затея моя оказалась довольно опасной. При возвращении в лагерь нам пришлось с четверть часа прятаться от патруля.
Наш шатер показался нам нагретым теплом человеческих тел, но мы все-таки улеглись у себя в углу, хотя я всю ночь не сомкнул глаз.
Следующий день был воскресеньем. Беженцы, собираясь к мессе, оделись по-праздничному. В городе нам всюду встречались девушки в светлых платьях и нарядные дети, шедшие впереди родителей. Кондитерские были открыты, и я купил еще теплое пирожное — как в Фюме.
Получив еду, мы пошли к доку и съели ее там, сидя на камне и свесив ноги над водой.
А в пять часов немецкие машины остановились у мэрии, и офицер потребовал проводить его к г-ну Вьейжё.
В понедельник утром я чувствовал себя опустошенным и подавленным. Анна спала неспокойно, вздрагивала — этого за ней я раньше не замечал — и бормотала что-то на своем языке.
Я встал в тот же час, что и всегда, но, выйдя наружу, чтобы умыться и побриться, увидел, что я не один: всюду кучками стояли заспанные беженцы и смотрели, как идут немецкие мотоциклы.
Мне показалось, что я заметил в глазах у людей унылую покорность, и сам я, должно быть, выглядел так же — это было всеобщее чувство, длившееся несколько дней, даже несколько недель.
Страница была перевернута. Одна эпоха минула, в этом никто не сомневался, но что придет за ней, никто не знал.
Речь шла не только о нашей судьбе, но и о судьбе всего мира, частицей которого мы были.
Мы все заранее составили себе довольно страшное представление о войне, о вторжении, и вот теперь, когда она настигла нас, мы увидели, что все идет не так, как мы предполагали. Но это было лишь начало.
Вот пример: пока на стоявшей на земле плитке грелась вода для бритья и мимо, не обращая на нас внимания, шли немцы, очень молодые, розовые и свежие, словно на параде, я заметил вдалеке двух французских солдат с винтовками "на ремень", которые стояли на часах у дверей вокзала.
С позавчерашнего дня поезда не ходили. Набережные были безлюдны, как и залы ожидания, буфет, военная комендатура. Двое солдат в ожидании приказа не знали, что делать, и только около девяти они приставили винтовки к стене и ушли.
Намыливая кисточкой щеки, я услышал в порту характерный стук дизелей — рыболовные суда ушли в море. Их было лишь несколько. Враг занимал город, но тем не менее рыбаки, как обычно, вышли в море забрасывать сети. Никто их не задержал.
Когда мы с Анной дошли до города, кафе, бары и магазины были открыты, торговцы прибирались в своих лавках. Мне запомнилась цветочница, расставлявшая гвоздики в ведре перед витриной. Значит, находились люди, которые и в такой день покупали цветы?
По тротуарам шли прохожие — чуть тревожные и сбитые с толку, как и я сам; в толпе попадались люди во французской военной форме.
Один из них посреди Дворцовой улицы спросил у полицейского, что ему делать, и по жестам того я понял, что он и сам понятия не имеет.
Около мэрии немцев я не видел. Честно говоря, я вообще не помню, чтобы на улицах, среди жителей, мне попадались пешие немцы. Как и прежде, я отправился посмотреть списки, потом на почту, где занял очередь к окошку "до востребования"; Анна задумчиво стояла у окна.