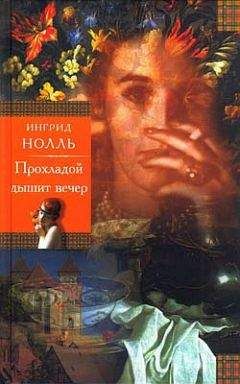Она была невысокого роста, полная, можно сказать даже, толстая, в возрасте между тридцатью пятью и сорока, и я никогда не встречал человека, обладающего такой энергией и такой же доброжелательностью.
Не знаю, была ли она дипломированной медицинской сестрой. Она принадлежала к хорошему ларошельскому обществу, была женой не то врача, не то архитектора, точно не помню, потому что ее всегда сопровождало еще несколько тамошних дам, и я путал, у кого кто был муж.
Она первой оказывалась на вокзале, чуть только объявляли о прибытии поезда, но оказывалась не за тем, чтобы, как делало большинство носительниц повязок, говорить утешительные слова и раздавать конфетки, а искала в толпе тех, кто больше всего нуждался в помощи.
По мере развития событий таких становилось все больше, и я часто видел, как больные, дети, дряхлые старики плетутся за г-жой Бош в барак, где она в белом халате, стоя на коленях, обмывала стертые до крови ноги, перевязывала раны, провожала женщин, которым требовалась специальная помощь, за импровизированную занавеску из одеяла.
В полночь она обычно была еще в лагере и, вооружась карманным фонариком, молча делала обход, утешала плачущих женщин или распекала слишком шумных мужчин.
Электричество подвели в лагерь наспех, работало оно с перебоями, и когда я предложил привести его в порядок, г-жа Бош только спросила:
— А вы умеете?
— Это, можно сказать, моя профессия. Мне только нужна лестница.
— Так поищите.
Я выбрал строящийся дом в новом квартале напротив вокзала, зашел туда и, поскольку спрашивать позволения было не у кого, самовольно унес лестницу. Она оставалась в лагере все время, пока я там был, и никто не пришел потребовать ее назад.
Я также вставлял стекла, чинил краны и водопроводные трубы. Г-жа Бош так и не поинтересовалась моей фамилией, не спросила, откуда я приехал. Она звала меня просто Марсель и всякий раз, когда что-то портилось, посылала за мной.
Дня через три-четыре я стал мастером-универсалом. Леруа исчез уехал с первой партией не то в Бордо, не то в Тулузу. Из нашего вагона остался только старик Жюль; его не выгоняли, потому что он играл роль шута.
В городе я встретил человека с трубкой, которого прозвал привратником. Он торопился, сказал мне на ходу, что идет в префектуру узнать, нет ли каких известий о его жене, и больше я его не видел.
Это произошло на второй или на третий день. Анна выстирала трусики и бюстгальтер, повесила их сушиться на солнышке, и мы бродили по лагерю, обмениваясь заговорщицкими взглядами: мы-то знали, что под черным платьем она совершенно голая.
В конце набережной высилась толстая Часовая башня; она была еще массивнее тех башен, что стоят по бокам у входа в порт; чтобы попасть на главную улицу, надо было пройти под ее аркой.
Мы уже совершенно освоились и с нею, и с извилистыми улочками, на которых царило невероятное оживление: кроме местных жителей и беженцев, в городе стояли пехотные части и моряки.
Когда я сказал Анне, что хочу купить ей смену белья, она не стала отказываться. Оно ей было необходимо. И я подумал, а не предложить ли ей купить еще и светлое платье, каких полно в витринах. Возможно, она тоже подумала об этом, потому что угадывала каждую мысль, какая приходила мне в голову.
— Знаешь, — сказал я ей, — я подарил бы тебе платье…
Она не стала отказываться из приличия, как сделало бы на ее месте большинство, потому что это все равно притворство, а с улыбкой посмотрела на меня.
— Ну, и?.. Что ты хочешь добавить?
— Что я засомневался — из эгоизма. Для меня черное платье-это как бы часть тебя, понимаешь? Я вот все думаю, не разочаровался бы я, увидев тебя одетой по-другому.
— Я рада, — ответила она, коснувшись меня кончиками пальцев.
И я чувствовал, что это правда. Я тоже был рад. Проходя мимо парфюмерного магазинчика, я остановился.
— Слушай, а ты пользуешься пудрой и губной помадой?
— Раньше пользовалась.
Она имела в виду: не до меня, а до Намюра.
— Так, может, купить тебе?
— Это зависит от тебя. Если ты предпочитаешь меня накрашенную и напудренную…
— Нет.
— Тогда я не хочу.
Я никогда об этом не задумывался, но не только потому, что гнал такие мысли — мне просто не приходило в голову, что наша с нею совместная жизнь не имеет будущего.
Я не знал, когда это случится. Да и кто мог это предсказать? Мы жили как бы в антракте, вне пространства, и я жадно наслаждался этими днями и ночами.
Я наслаждался всем — меняющейся картиной порта и моря; вереницей разноцветных рыбачьих суденышек во время прилива; рыбой, которую выгружали в корзинках и ящиках; уличной толпой, видом лагеря и вокзала.
И еще я все время испытывал телесный голод по Анне и впервые в жизни не стыдился своего желания.
Да что там! С нею это стало какой-то игрой, исполненной, как мне казалось, необыкновенной чистоты. Мы радостно и как-то невинно говорили с нею об этом, придумав настоящий код, целую систему секретных знаков, которые позволяли нам на людях сообщать друг другу о своих тайных мыслях.
Центром этого нового мира был видимый издалека зеленоватый шатер, возвышающийся над бараками, и в этом шатре, нашей конюшне, как мы его называли, на утоптанной соломе, у нас было свое местечко.
Мы там разложили свои вещи — те, что я вытащил из чемодана, и те, что купил, вроде солдатских котелков для супа и спиртовки на сухом спирте, на которой мы по утрам варили кофе; варили мы его на улице между двумя бараками напротив пристани.
Остальные, особенно те, кто приехал на одну ночь, поглядывали на то, как мы устроились, с удивлением и, убежден, с завистью, с какой я когда-то смотрел на настоящую конюшню, где у лошадей есть теплая подстилка.
Я тоже говорил — "наша подстилка" и не слишком часто менял солому, чтобы она пропиталась нашими запахами.
Но любили мы друг друга не только там, а в самых разных, порой даже неожиданных, местах. Началось это с катера однажды ночью, когда мы сидели и смотрели на рыбачьи лодки, покачивавшиеся у стенки; блоки поскрипывали, словно кричали чайки.
Уверенный, что ни за что не пошел бы в море, я, видимо, как-то поособенному взглянул на открытый люк одного суденышка, возле которого на палубе стояли корзины для улова. Потом перевел взгляд на Анну, потом снова — на люк, и тут она рассмеялась тем смехом, что был частью нашего тайного языка.
— Хочешь?
— А ты?
— А не боишься, что нас примут за воров и арестуют?
Было уже за полночь. На набережной пусто, все фонари закамуфлированы. Только где-то далеко раздаются шаги. Трудней всего оказалось спуститься по железной лесенке, заделанной в каменную облицовку набережной. Последние ступеньки были скользкие.
Но мы кое-как все-таки спустились, скользнули в люк и стали шарить в темноте, натыкаясь на корзины, бидоны и какие-то предметы, назначения которых не могли определить.
Пахло рыбой, водорослями и бензином. Наконец Анна шепнула:
— Сюда…
Я нашел ее руку, она потащила меня, и мы оба рухнули на узкий и жесткий диванчик, но сперва сбросили с него клеенку, которая нам мешала.
Нас лениво покачивал прилив. Сквозь люк виднелся кусочек неба с несколькими звездами; у вокзала пыхтел локомотив. Нет, это не прибыл новый состав. Просто маневровый паровозик таскал туда-сюда вагоны, словно наводя на путях порядок.
Вокруг лагеря еще не было ограды. Мы могли входить и выходить где душе угодно. Никто не дежурил у входа. Достаточно было тихонько пройти, чтобы не разбудить соседей.
Позже поставили ограды, но не для того, чтобы изолировать нас, а от воров, чтобы они не могли смешаться с беженцами и что-нибудь украсть.
Вечерами мы частенько слонялись по вокзалу и как-то ночью, когда он опустел, воспользовались скамейкой в самом дальнем углу зала ожидания.
Нас это страшно забавляло. То был своеобразный вызов, и однажды мы занимались любовью за связками соломы в нескольких шагах от г-жи Бош, ухаживавшей за больными и продолжавшей в это время разговаривать с нами.
Ежедневно какое-то время я посвящал розыскам жены и дочери — в меру своих возможностей, разумеется.
Нам говорили, что где-то, точно уже не помню, то ли в Осерре, то ли в Сомюре, а может, в Туре, будто бы вывешивают списки беженцев. Вскоре и у нас на дверях управления лагеря каждое утро стали появляться такие же списки, а люди группами стояли возле них и читали.
Только это были списки бельгийских беженцев. Очень много народу оказалось в Сенте, Бордо, Коньяке, Ангулеме. Некоторые добрались даже до Тулузы, но большая часть осела в деревушках, названий которых я никогда не слышал.
На всякий случай я просматривал списки. Ежедневно заходил также к заместителю начальника станции, который пообещал мне узнать про судьбу нашего поезда. Он воспринял это как дело чести и ужасно раздражался, что не может найти никаких его следов.