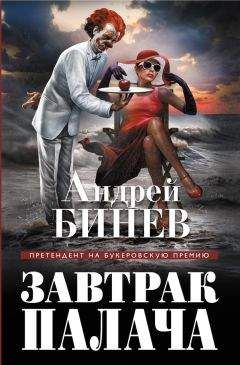Ознакомительная версия.
С этого злосчастного ящика, обнаруженного профессором, все и началось. То было роковой ошибкой герра Штрауса. Вообще-то, рано или поздно этим все и должно было закончиться.
Профессор Шнеерзон срочно вылетел в Израиль, встретился там с весьма компетентными людьми и предоставил им весь список распакованных и идентифицированных ценностей. Он сознался, что замалчивал подобные истории, потому что они не касались его семьи, но сейчас в нем окончательно проснулась совесть и он желает искупить свою вину. Он даже был готов перевести, куда будет велено, весь свой накопленный за несколько лет капитал (от экспертиз имущества герра Штрауса) и выступить свидетелем на суде.
Вот тогда, сначала тайно, а потом открыто, стали искать ответ на вопрос, когда-то заданный журналистом в нью-йоркском издании, — «Где тот загадочный остров Монте-Кристо, на котором родился немец Штраус?»
Хранилище было арестовано. Однако счета герра Штрауса все еще оставались в его распоряжении. Они все время пополнялись доходами от акций судостроительных верфей, от безостановочной работы семи крупных танкеров, полетов одиннадцати пассажирских самолетов, круглосуточных игр в двух крупнейших казино Лас-Вегаса и еще от очень многого другого, включая знаменитую консалтинговую компанию, сеть ночных ресторанов и увесистый пакет акций одного крупного европейского аэропорта, правда, через русского посредника.
Эта скандальная история вынудила его немедленно покинуть Нью-Йорк и очутиться в нашем парк-отеле, арендовав здесь семикомнатные апартаменты, самые обширные из всех имеющихся, и даже личный бассейн с морской водой. Он привез с собой два полотна итальянских мастеров эпохи Возрождения и три вазы эпохи династии Минь Цзиндэчжэнь. Герр Штраус вывесил полотна в своей спальне, а вазы поставил в гостиной. Откуда именно в коллекции его нищего отца взялись эти предметы, не известно. Свидетелей не осталось. Поэтому герр Штраус за них и за себя пока спокоен.
Однако такого количества бескомпромиссных врагов, которые теперь числились у тишайшего сухонького старичка герра Штрауса, не было, пожалуй, ни у кого на свете. Разве что у известного палача и идиота Эйхмана.
* * *
Солнце сползает за горизонт, оно тихо и печально утопает в море. Мне его даже жаль — такое оно беззащитное и нежное в этот вечерний час.
Я выхожу на берег и вижу, что мой утренний собеседник, полный итальянец с юными голубыми глазами синьор Контино, по-прежнему млеет в лучах солнца, теперь уже заходящего. Я видел его в ресторане на ланче, но синьор Контино только потыкал там вилкой во что-то (не я обслуживал на этот раз его стол) и, шумно дыша, слинял.
Он был так же задумчив и ироничен, как и утром.
Синьор Контино увидел меня и лениво помахал полной белой рукой. Я подошел и вежливо склонился.
— Приятель, принеси-ка мне бутылочку «Барбареско» от мудрого пьемонтского кудесника синьора Анджело Гайа. А то у меня до сих пор зловонная отрыжка от утренней бурды… от той крепкой гадости — La strada della vita. Надо мной, полагаю, здесь потешается даже обслуга? Не так ли?
Я пожал плечами и прозрачно усмехнулся.
— Знаешь ли ты, Il pranzo e servitor, — продолжил итальянец, не замечая моей усмешки, — что я некогда купил неплохой пакет акций гидроэлектростанции во Франции, в самом ее снобистском сердце? Туда вошли и водохранилище, и две плотины. А водопад достался мне даром — как живописное дополнение к тупому серому бетону и скучным энергетическим установкам. Я вспомнил это сейчас, потому что пьемонтское вино синьора Гайа напоминает мне бесноватые водопады и даже ту мощную гидроэлектростанцию. До него, до этого достойного человека, пьемонтские вина были похожи на глубоководные и спокойные темные речки, в которых можно было утонуть в полной тишине и безвестности. А синьор Гайа будто воздвиг плотины и гидростанции, пропустил мощный ток через тяжелые, емкие провода, и реки вдруг забурлили, задымили невесомой водной взвесью. Безудержная сила великана безумствует, вырываясь на волю. О, это уже совершенно другие вина! В них уже тихо не утонешь, в них захлебнешься и, счастливый, пойдешь не на дно, а вознесешься ввысь, живой ты или мертвый. Вот что значит его «Барбареско». Раньше, Il pranzo e servitor, то была тихая мещанская заводь «Бароло»[9], а теперь — веселая пиратская лагуна «Барбареско». Неси-ка мне самую лучшую, самую пыльную бутылочку… и садись рядом. Я угощу тебя тем, что вам, обслуге, пить не позволяется. Потому что каждая его капля стоит дороже ваших никчемных жизней.
Я кивнул, так как знал, что синьор Контино почти никогда не ошибается. Он всегда там, где ведутся масштабные земляные работы, укрощаются полноводные реки, образуются искусственные водоемы и возводятся плотины и гидростанции. А еще он там, где строятся виллы с видом на водопады и на прочие прелести природы.
Синьор Контино когда-то купил огромный лесистый склон возле Рейнского водопада, в сорока пяти километрах от Цюриха, и построил на нем три милые гостинички. Каждая их роскошная комната имеет божественный вид на кипящие воды Рейна и на безумствующую водную метель великого Рейнского водопада. Представьте, это приносит очень неплохой доход, как и все, чем когда-либо занимался синьор Контино.
Однако сейчас он с прежней печалью в ясных, юных своих голубых глазах говорит о трудах пьемонтского винодела синьора Гайа. Сравнивает высокое искусство винодела с прагматичным ремеслом предприимчивого бизнесмена. Хотя именно это ремесло позволяет ему наслаждаться дорогим детищем винодела.
Я поторопился к старшему сомелье за пыльной бутылкой пьемонтского «Барбареско», с которой неприлично сдувать ее заслуженную благородную пыль. Через минуту я уже украсил белый пластиковый столик возле шезлонга синьора Контино бутылкой семилетнего «Барбареско», ловко, одним наработанным движением, выкрутил пробку и плеснул ему на донышко хрустального фужера пробную капельку. Он замахал обеими руками:
— Марокканец, черт бы тебя побрал! Разве такое вино пробуют? Если кто-то вздумает это сделать, разбей эту драгоценную бутылку о его козлиные рога!
Я немедленно наполнил бокал, но он требовательно, вскинув правую бровь над юным аквамариновым глазом, указал полным пальцем на второй фужер. Я наполнил ровно наполовину и его, но синьор Контино еще строже посмотрел на меня, и я, с удовольствием подчиняясь, долил до верхушки и свой бокал.
— Вот так, марокканец! А ну-ка prosit! Salute! Но не залпом, мулат! Это тебе не ваша крестьянская кашаса, которая лишь дурит и без того дурные головы!
Я кивнул и сделал несколько мелких глотков. Вот это действительно вино! Чистейший водопад божественного вкуса, густые, бордовые брызги падающей с самого неба ангельской крови… Подарок господа! Такого мне пить еще не приходилось. Нам действительно запрещено прикасаться к винам, подаваемым клиентам. Разве что по требованию самого клиента. Как на этот раз.
— Il pranzo e servitor, почему ты не возражаешь, когда я называю тебя марокканцем? — вдруг спросил полный итальянский господин.
— Я всегда к вашим услугам, синьор Контино. Только и всего.
— Но ведь ты не марокканец? Ты — бразильянец. Мне говорили…
— Все верно, синьор Контино. Мой отец бразильянец, а мать — русская. Отец был черным, как сапог, а мать белая, как снег. Вот и получился снежный мулат.
Итальянец расхохотался, потрясая своим сдобным животом.
— Бразильский черный сапог раздавил нежный сибирский снежок? Согласись, марокканец, это тоже неплохо сказано! Тьфу, черт! Il pranzo e servitor! Ведь тебя так прозвали? Каждый произносит это на свой лад?
— Вы, как всегда, правы, синьор!
— Да, марокканец, я всегда прав!
Он печально, как утром, вгляделся в морскую даль и тяжело вздохнул, колыша полную курчавую грудь и складчатое жирное брюхо.
Этого итальянца еще называют на родине, в Неаполе, Дон Пепе. Потому что он Дон Джузеппе Контино, а не просто какой-то там обыкновенный синьор Контино.
Начинал свой путь Дон Пепе в мальчишеской шайке мелких воришек. Они вскрывали по ночам автомобили, вырывали с «мясом» радиоприемники, свинчивали рулевые колеса, даже утаскивали передние сиденья и салонные зеркала. На машинах, которые им особенно нравились, гоняли до утра по пляжам, а потом топили их в ласковой утренней морской волне. То, что свинтили, выдрали или уволокли, отдавали парням постарше за четверть цены, а те отвозили все это в соседние города и сбывали на летучих рынках, торгующих ворованным барахлом два-три часа в позднее вечернее время — под свет костров и фар грузовичков. Пока полиция хватится, что рынок образовался на таком-то пустыре, на такой-то дороге или в таком-то тупичке, почти все уже уходило с рук за бесценок. Иногда покупатели совершали обмены одного краденого на другое. Это была веселая игра, которую начинала на пустынных улочках Неаполя шпана из веселой, шумной шайки Джузеппе Контино, а заканчивали торговцы краденым.
Ознакомительная версия.