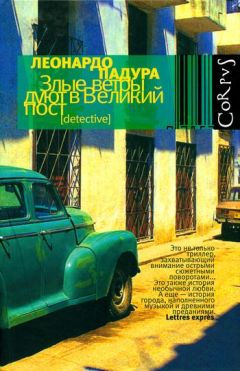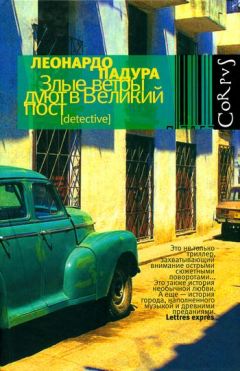— Сию минуту. Все бумаги здесь. — Директор направился к деревянному шкафчику с выдвижными ящиками.
— Маноло, займись поиском документов, относящихся к периоду со второго по четвертое октября пятьдесят восьмого года. Если хочешь, капрал Флейтес тебе поможет.
— Он не может.
— А что с ним?
— На радостях, что нашлась пуля, он пошел отметить это в соседний бар.
— Где этот бар и почему я его не заметил?
Директор вернулся, потом сходил еще раз, и на длинном полукруглом секретере, стоявшем в глубине библиотеки, образовались две кипы документов в картонных папках и конвертах из плотной желтой бумаги. Конде с наслаждением вдохнул запах старых бумаг.
— Только вы, пожалуйста, поаккуратней. Это очень важные бумаги…
— Ладно, — сказал Конде. — А где паспорта?
— Они у меня в кабинете, сейчас принесу.
Тенорио вышел, и Маноло, недовольно прищелкнув языком, уселся у секретера.
— Умеешь ты меня использовать, Конде. Теперь вот удружил с этой горой бумаг…
Конде не дослушал его. Делая вид, что с увлечением рассматривает книги, стены, вещи, он медленно вышел из библиотеки. Выглянув в окно в гостиной, он удостоверился, что директор направился в служебные помещения, и быстро свернул к комнате Хемингуэя. В глубине ее, рядом с туалетом, располагалась гардеробная, где висели брюки и куртки писателя, в которых он охотился в Африке и США, его рыбацкий жилет, толстая армейская шинель и даже старый костюм тореро, отделанный золотом и блестками, — должно быть, подарок кого-нибудь из знаменитых матадоров, которыми он так восхищался. На полу, в образцовом порядке, оставшемся от какой-то иной, ирреальной жизни, выстроились его сапоги и ботинки — обувь охотника, рыбака, военного корреспондента на фронтах Европы. Здесь пахло слежавшейся материей, дешевым инсектицидом и забвением. Конде вдохнул этот запах и закрыл глаза, готовый к прыжку: что-то будоражило его кровь в этом огромном сундуке, наполненном воспоминаниями. И тогда он почти машинально протянул руку к стоявшей возле шкафа обувной коробке. В глубине ее обнаружились носовые платки, усыпанные, как веснушками, пятнышками плесени. Дрожащей рукой Конде осторожно отогнул стопку сложенных вдвое платков, и сердце у него подпрыгнуло при виде открывшегося его глазам темного пятна: на дне коробки покоились кружевные трусики Авы Гарднер. Полностью отдавая себе отчет в том, что вторгается в чужую тайну, бывший полицейский взял их и, посмотрев на свет и живо представив все то, что они некогда прикрывали, сунул темный комочек в карман. После этого поставил коробку на место, покинул гардеробную и зашел в расположенный через стенку туалет.
Переведя дух, он погрузился в созерцание цифр, обозначавших даты и вес в фунтах, которые Хемингуэй записывал прямо на стенке, рядом с весами. Параллельные колонки цифр не подчинялись хронологическому порядку, и Конде пришлось повозиться, отыскивая данные, относящиеся к 1958 году. Когда ему это наконец удалось, он перевел глаза ниже, в конец столбика, который открывался августом и прерывался второго октября 1958 года — в этот день вес писателя составлял двести двадцать фунтов. Более поздние отметки относились уже к концу 1959 года и началу 1960-го, то есть к последнему периоду пребывания писателя на Кубе, и в них Конде разглядел близость конца: в это время Хемингуэй уже весил чуть больше двухсот фунтов, а самые последние цифры, относящиеся к июлю 1960 года, не превышали ста девяноста фунтов.
Вся личная драма писателя была доподлинно отражена на этой стене, способной рассказать о его тоске и смятении лучше, чем все его романы, письма, интервью и поступки. Тут, находясь наедине со своим телом, без свидетелей, если не считать неумолимого времени и бездушных, но вещих весов, Хемингуэй запечатлел в цифрах, более красноречивых, чем эпитеты, хронику надвигающейся смерти.
Приближающиеся шаги прервали размышления Конде. С самым невинным лицом он высунулся из туалета и увидел перед собой директора с паспортами в руке.
— Где он хранил огнестрельное оружие? — спросил Конде, не дав директору заговорить первым.
— Рядом с гардеробной у него была специальная стойка. Кое-какое оружие он держал на втором этаже Башни, там же хранилось большое количество холодного оружия и копья племени масаев, которые он привез с сафари пятьдесят четвертого года.
— Этот сукин сын был просто одержим оружием! Ну, а «томпсон»? Где он хранился — здесь или там?
— Обычно он хранил его в Башне. Здесь же он держал охотничьи ружья и «манлихер» — тот всегда висел у книжного шкафа.
— Я готов поспорить, что видел этот «томпсон». — Конде попытался напрячь память, выдавить из нее нужное воспоминание. — Ну хорошо, который из них относится к пятьдесят восьмому году? — спросил он у Тенорио, разложившего паспорта на секретере под неусыпным взглядом большого африканского буйвола.
— Вот этот. — Директор протянул ему один из паспортов. — Выдан в пятьдесят седьмом году.
Конде просмотрел его страничка за страничкой, пока не нашел то, что искал: отметку о выезде с Кубы четвертого октября 1958 года, а рядом въездной штамп, проставленный в аэропорту Майами, Флорида, в тот же день.
— Все верно, он закончил рукопись второго октября, в тот же день взвесился последний раз и уехал четвертого. Теперь нужно выяснить, что он делал третьего октября. И скажет нам это Маноло.
Тот уже просмотрел большую часть папок и сдвинул их в сторону.
— Это все документы на дом и землю, а это чеки от покупок, но за сороковые годы, — пояснил он. — Помогите мне разобраться с остальным.
Директор и Конде подошли к секретеру.
— Что вы ищете? — осведомился Тенорио.
— Я же вам говорил: третье октября пятьдесят восьмого года… Помогите ему, пожалуйста, а я на минутку отлучусь покурить.
Конде направился к двери и вдруг остановился. Взглянул на застывшего у стола Тенорио:
— А все-таки почему вы мне не сказали, кто был ваш дед?
Тенорио ответил ему неприязненным взглядом. Внешне он не был похож на Рауля Вильярроя, однако его рот и глаза были точь-в-точь как у маленькой девочки, сфотографированной вместе с Хемингуэем, — крестницы писателя, как гласила надпись на снимке и как ему об этом поведал сам Тенорио, если Конде не изменяла память. Бывший полицейский прикинул про себя, какие причины могли вынудить внука Рауля скрыть это родство, и обрадованно улыбнулся, когда услышал ответ, которого ждал.
— Хемингуэй говорил, что Рауль Вильяррой его четвертый сын. И мой дед этим особенно гордился. Для него в имени Хемингуэя заключалось нечто святое. И для матери тоже, а теперь и для меня.
— А святого нельзя касаться.
— Вот именно, — подтвердил Тенорио и, посчитав объяснение исчерпывающим, повернулся к Маноло.
Конде пересек гостиную и, прежде чем выйти на улицу, еще раз окинул взглядом ее убранство, включая картины, изображающие корриду, никем не занятые кресла и маленький бар с пустыми бутылками, простерилизованными временем; заглянул напоследок в столовую с ее охотничьими трофеями и накрытым столом, уставленным изящной посудой с клеймом «Усадьба «Вихия»; разглядел в глубине комнаты, где Хемингуэй обычно писал, изножье кровати, на которой писатель спал во время сиесты и после попоек. Конде знал, что подошел к концу чего-то, и готовился попрощаться с этим домом. Если предчувствия его по-прежнему не обманывают, много лет пройдет, прежде чем он вновь появится в этом ностальгическом и таком литературном месте.
С незажженной сигаретой во рту он спустился в сад, к фонтану, вокруг которого полицейские успели перекопать землю на площади не менее пятнадцати квадратных метров. Подойдя к краю ямы, он прислонился спиной к голому стволу мертвого дерева, закурил и напряг свою память, стараясь представить, как это место могло выглядеть сорок лет назад: загон для тренировки петушков обычно делают круглым, таким же, как арена для взаправдашних боев, и вокруг него возводят стенки метровой высоты, зачастую из пальмовых веток или джутовых мешков, натянутых между кольями, дабы обозначить этот круг диаметром от четырех до пяти метров, внутри которого и происходят бои. Над этим загоном не было навеса, но он находился в тени манговых деревьев, дифолиса и мирта. Петушатник и случайные зрители могли проводить здесь долгие часы, не страдая от палящего солнца. Постепенно у Конде разыгралась фантазия, и он словно наяву увидел перед собой Торибио Стриженого — такого, каким запомнил его, когда впервые увидел на официальных боях: он стоял в одной майке без рукавов в центре круга, держа в руке петуха, на которого науськивал его собрата, чтобы тот поскорее вошел в раж. Шпоры у петухов были обвязаны тряпицами, дабы избежать случайных ранений. Стоя вплотную к ограждению из мешковины, Хемингуэй, Каликсто Монтенегро и Рауль Вильяррой молча наблюдали за происходящим, и лицо писателя напряглось, когда Стриженый наконец отпустил петуха и птицы бросились друг на друга, хлопая крыльями, угрожающе вздымая свои смертоносные, но сейчас чисто бутафорские шпоры и подбрасывая в воздух древесные стружки, которыми была устлана арена… Стружки. Конде видел, как они шевелятся под ногами у бойцов, и все понял: того человека похоронили в единственном месте, где свежевскопанная земля не вызывала подозрений. После того как могила была засыпана, сверху вновь уложили стружки.