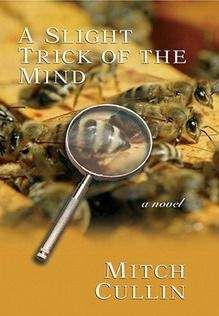— Сожалею, — сказал Холмс, глядя, как письмо убирается в чемодан. В ту минуту он не мог сказать господину Умэдзаки, что его отец, должно быть, лгал. Но зато он мог, исходя из своего недоумения, объявить, что не уверен в свидании с Мацудой Умэдзаки. — Понятно, что я мог встречаться с ним — но мог и не встречаться. Вы и представить себе не можете, сколько людей приходило к нам в те годы, буквально тысячи. Но вспомнить я могу лишь немногих, а японец в Лондоне скорее всего мне бы вспомнился, как вы полагаете? Но как бы то ни было, я не помню. Прошу прощения, хотя я знаю, что толку от этого чуть.
Господин Умэдзаки махнул рукой, как бы отметая заодно и свою серьезность.
— Не стоит беспокоиться, — сказал он своим обычным тоном. — Отец не имеет для меня большого значения — он пропал очень давно и похоронен в моем детстве вместе с братом. Я спрашивал ради матери, она всегда хотела знать. Она мучается по сей день. Я понимаю, что должен был поговорить с вами об этом раньше, но при ней это было бы непросто, и поэтому я отложил разговор до нашего путешествия.
— Ваше благоразумие и преданность матери, — сердечно сказал Холмс, — достойны похвал.
— Спасибо, — сказал господин Умэдзаки. — И прошу вас, пусть все это не заслонит истинных причин моего приглашения. Оно было искренним — хочу, чтобы это было ясно, — и нам с вами есть о чем побеседовать и что посмотреть.
— Бесспорно.
Но в течение продолжительного времени после этого разговора не было сказано ничего существенного, кроме кратких утверждений общего характера, которые делал в основном господин Умэдзаки («Боюсь, что нам пора. Как бы не опоздать на паром»). Ни один из них не пожелал начать беседу — ни когда они ушли из сада, ни когда сели на паром до острова Миядзима (они промолчали, даже увидев в море огромные красные тории). Потом их неловкое молчание только усугубилось и держалось, пока они ехали автобусом в Хофу и устраивались вечером на водах Момидзисо (где, по легенде, белая лиса некогда залечила раненую лапу в целебном горячем источнике и где, купаясь в достославных водах, можно было углядеть в пару лисью морду). Оно прервалось перед самым ужином, когда господин Умэдзаки глянул Холмсу в глаза, широко улыбнулся и произнес:
— Дивный вечер.
Холмс вернул ему улыбку, хотя и без воодушевления.
— Весьма, — был его лаконический ответ.
Но если господин Умэдзаки легким мановением руки отделался от вопроса об исчезнувшем отце, то позже загадкой Мацуды озаботился Холмс. Все-таки имя этого человека, уверился он, было ему смутно знакомо (или, засомневался он, так казалось из-за ставшей уже привычной фамилии?). И, когда они во второй раз засиделись допоздна — ели рыбу и пили саке в гостинице в Ямагути, — он стал расспрашивать про отца; первый вопрос был встречен долгим, беспокойным взглядом господина Умэдзаки:
— Почему вы теперь об этом спрашиваете?
— Потому что любопытство, к сожалению, оказалось сильнее меня.
— Правда?
— Боюсь, что да.
Потом на каждый вопрос давался содержательный ответ, и господин Умэдзаки, опустошая и наполняя свою чашечку, становился все менее сдержан. Но когда они оба захмелели, господин Умэдзаки вдруг стал умолкать на середине фразы и не мог ее закончить. Тогда он беспомощно смотрел на Холмса, вцепившись в свою чашечку. Скоро он и вовсе прекратил разговаривать, и теперь уже Холмс, в виде исключения, помогал ему встать, выйти из-за стола, валко идти. Они разошлись по своим комнатам, и на следующее утро — за осмотром трех соседних деревень и храмов — ни одного слова не было сказано о вчерашнем разговоре.
Третий день их поездки остался в памяти Холмса ярчайшим воспоминанием обо всем путешествии. И он, и господин Умэдзаки, хотя и испытывали малоприятные последствия чрезмерного возлияния, были в превосходном настроении, и стоял восхитительный весенний день. Автобусы везли их ухабистыми сельскими дорогами, и беззаботная беседа легко переносилась с одного на другое. Они говорили об Англии и говорили о пчеловодстве; говорили о войне, говорили о странствиях своей юности. Холмс с удивлением узнал, что господин Умэдзаки бывал в Лос-Анджелесе и пожимал руку Чарли Чаплину; господин же Умэдзаки завороженно выслушал рассказ Холмса о его приключениях в Тибете, где тот посетил Лхасу и провел несколько дней у далай-ламы.
Их дружеское, свободное собеседование протянулось через утро в день, который они провели, рассматривая товары на деревенском базаре (Холмс приобрел отменный конвертный нож: кинжал кусунгобу) и наблюдая любопытный весенний праздник плодородия в другой деревне; они негромко обменивались репликами, а вниз по улице шествовала процессия из священников, музыкантов и местных жителей, наряженных демонами: мужчины воздымали деревянные фаллосы, женщины держали резные пенисы размером поменьше, обернутые в красную бумагу, зрители дотрагивались до кончиков проплывавших мимо удов, дабы их дети были здоровы.
— Очень самобытно, — заметил Холмс.
— Я подумал, что вам это может показаться интересным, — сказал господин Умэдзаки. Холмс лукаво улыбнулся.
— Мой друг, по-моему, это больше в вашем вкусе.
— Возможно, вы правы, — согласился господин Умэдзаки, с улыбкой протягивая руку к приближавшемуся фаллосу.
Но наступивший вечер был таким же, как предыдущий: гостиница, ужин, саке, сигареты и сигары, очередные вопросы о Мацуде. Так как господин Умэдзаки не мог ответить на все вопросы о своем отце — особенно когда вопросы сделались менее общими, — он нередко отвечал туманно, или просто пожатием плеч, или говоря: «Не знаю». Но недовольства он не проявлял, даже если Холмс, осведомляясь, пробуждал в нем тягостные воспоминания о детстве или муках его матери.
— Она так много уничтожила вещей — чуть не все, к чему прикасался отец. Дважды она устраивала в доме пожар и пыталась также уговорить меня совершить вместе с нею самоубийство. Она хотела, чтобы мы зашли в море и утопились; так она думала отомстить отцу за причиненное нам зло.
— Значит, ваша мать явно питает ко мне неприязнь. Она с трудом перемогает враждебность, я это почувствовал.
— Да, вы ей не слишком нравитесь, но, честно говоря, ей все не слишком нравятся, так что не принимайте близко к сердцу. Она едва замечает Хэнсюро, и ее не радует избранный мною путь. Я не женат; я живу со своим другом — оттого, как она считает, что отец нас бросил. По ее разумению, мальчику никогда не быть мужчиной, если у него нет отца, который научил бы его этому.
— Не я ли склонил его бросить вас?
— Она полагает, что вы.
— Тогда я должен все принимать близко к сердцу. Как иначе? Я надеюсь, что вы не разделяете ее мнения.
— Нет, отнюдь нет. Мы с моей матерью по-разному смотрим на вещи. Я ни в чем вас не виню. Вы, если позволите, мой герой и новообретенный друг.
— Я польщен, — сказал Холмс, поднимая чашечку. — За новообретенных друзей…
Засим на лице господина Умэдзаки появилось доверительное внимание и не сходило с него весь вечер. Холмс в самом деле различал в нем веру: господин Умэдзаки, говоря о своем отце, делясь тем, что знал, искренне верил, что отставной сыщик сумеет пролить вожделенный свет на его исчезновение или хотя бы выскажет несколько глубокомысленных соображений по завершении расспросов. Только потом, когда стало понятно, что Холмсу нечего ему открыть, его лицо сделалось другим — грустным и хмурым. Разъедающая хандра, подумал Холмс, когда господин Умэдзаки изругал подавальщицу, ненароком пролившую саке на их стол.
В заключительной части поездки начались долгие уходы в себя, сопровождавшиеся лишь выдыханием табачного дыма. В поезде до Симоносеки господин Умэдзаки писал в свой красный блокнотик, а Холмс, занятый тем, что узнал о Мацуде, следил в окно за речушкой, бежавшей вдоль крутых гор. Иногда поезд огибал поселки, при каждом доме была двадцатигаллоновая бочка на берегу реки (господин Умэдзаки уже сказал ему, что надпись на бочках означает «Вода на случай пожара»). За время пути Холмс видел много маленьких деревенек, за которыми высились горы. Достичь вершины этих гор, воображал он, это значит вознестись над всей префектурой и охватить взглядом умопомрачительное зрелище внизу — долины, деревни, далекие города, может быть, все Внутреннее море.
Любуясь красивыми местами, Холмс обдумывал то, что господин Умэдзаки рассказал ему о своем отце, мысленно рисуя воображаемый портрет сгинувшего человека, чей облик он практически мог призвать из прошлого: тонкие черты, высокий рост, характерной выделки сухое лицо, клиновидная бородка интеллектуала эпохи Мэйдзи.[11] Но Мацуда был еще и дипломат и государственный деятель, один из самых ярких японских министров иностранных дел, пока не впал в немилость. Это не сломило его, и он снискал славу таинственной личности, знаменитой своим логическим умом, умением вести спор и глубоким пониманием международной политики. Высшим среди его многочисленных достижении стала книга о японо-китайской войне,[12] написанная в Лондоне и повествовавшая среди прочего о закулисных переговорах, войну предварявших.