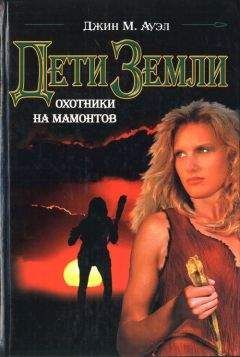профессией. В течение многих лет Грейс приходилось наблюдать разные варианты этого сценария на званых обедах, в родительские дни в лагерях и на вечеринках, подобных сегодняшней. Каждый раз Грейс переживала подобные моменты. Она хорошо понимала, что и милая мамочка, у которой ребенок учился в одном классе с Генри, и потрясающая пара, снимавшая как-то летом их домик у озера, и ведущий ток-шоу на радио, который жил двумя этажами выше (и считался самой крупной знаменитостью в их доме), вряд ли когда-нибудь станут друзьями их семьи.
Раньше Грейс предполагала, что в их жизни обязательно появятся многочисленные онкологи, такие же скупые на эмоции люди, как и Джонатан. Да-да, онкологи и их жены. Но этого не произошло. Грейс решила, что, видимо, коллеги Джонатана поставили себе скромную цель, уходя с работы домой, оставлять рак в стенах больницы. И, возможно, преуспели в этом больше, чем ее муж. Несколько лет назад Грейс и Джонатан общались со Стю Розенфельдом и его супругой. Стю тоже был онкологом и до сих пор замещал Джонатана на работе, если тому приходилось по каким-то причинам отсутствовать. И это общение было довольно сносным.
Розенфельды были заядлыми театралами. Каким-то образом им за несколько месяцев удавалось узнать, какие билеты будет вскоре невозможно достать. В результате на премьере они сидели в четвертом ряду рядом с Элани Стритч в первую же субботу после того, как спектакль был расхвален в «Нью-Йорк таймс». Грейс, скорее, больше восхищали способности Трейси Розенфельд, чем она сама. Трейси – кореянка американского происхождения – работала адвокатом и фанатично занималась бегом. И все же было приятно проводить время вместе с другой супружеской парой, наслаждаться городом и тем, что он может предложить вам в выходные дни. Женщины уводили мужей от ненужных разговоров (больничный персонал, больничная политика, больные раком дети) и, по большому счету, притворялись близкими подругами, которыми они в реальной жизни, конечно, никогда не были. Они могли обсуждать и мюзиклы, и серьезные постановки, и то, как и кого и за что раскритиковали в последнем номере журнала «Нью-Йоркер».
Все это было довольно безобидно и могло бы продолжаться до сих пор. Но как-то раз, лет пять назад, Джонатан пришел домой и заявил, что Стю сообщил ему очень интересную вещь. Они собирались поужинать вместе (так, ничего особенного, просто провести вечер в одном из местных ресторанов), но пару раз эти планы срывались. И тут вдруг Стю сказал, что ему очень жаль, но с сегодняшнего дня мужчины будут общаться только в больнице и только по работе. Трейси поддержала мужа и… ну…
– Ну? – переспросила Грейс, чувствуя, как у нее запылали щеки. – И что же?
– Ты с Трейси… не ссорилась случайно? – спросил Джонатан.
Грейс тогда охватило странное чувство вины, которое ощущаешь всякий раз, когда уверен, что не делал ничего плохого. Ну, или почти уверен, потому что нельзя быть в чем-то абсолютно уверенным. Люди стараются скрыть свои слабые места. Поэтому вы порой и не знаете, что случайно задели больную тему.
И они перестали встречаться с Розенфельдами, разве что только на мероприятиях, связанных с работой в больнице, а таких было очень мало. Иногда они случайно сталкивались в театре и тогда мило болтали ни о чем, обещая друг другу когда-нибудь поужинать вместе. Конечно, никто из них для этого ничего потом и не предпринимал. Впрочем, так вели себя и другие многочисленные супружеские пары, всегда безумно занятые работой, какими бы их действительные намерения при этом ни были.
Джонатан никогда больше не вспоминал о том эпизоде. Он привык к потерям, конечно же, причем даже не к потерям в прямом смысле слова, а к смерти, из-за этой жуткой, изнурительной, мучительной и безжалостной болезни. Были и другие потери, которыми нельзя было пренебречь, тем более что некоторые люди продолжали жить и трудиться где-то рядом, скажем, на Лонг-Айленде. По личному и весьма профессиональному мнению Грейс, на это повлияли отношения с семьей, в которой вырос сам Джонатан. В частности, родители, которые ни в чем и никогда не поддерживали его, разве что только не применяли физической силы, а также его брат, который так и не понял, что сам потерял оттого, что лишился братской любви. Джонатану не требовался большой круг общения, да у него никогда такого и не было. По крайней мере в то время, когда он уже состоял в отношениях с Грейс. Он создал собственную семью с Грейс и Генри.
Шли годы, и Грейс стала чувствовать то же самое. И тоже научилась отпускать людей. Сначала это было трудно, – самый сложный момент наступил, когда исчезла Вита, – потом все легче и легче, когда одна или две подружки из магистратуры перестали с ней общаться. Пропадали друзья из Киркленд-хаус (сейчас они где только не обосновались, а встречались лишь на свадьбах у общих знакомых). Пропадали и те подружки, которые вообще непонятно откуда взялись, но ей было хорошо в их компании.
Конечно, ни она, ни Джонатан не были затворниками. Оба активно участвовали в жизни города, и дни их были насыщены встречами с разными людьми и всевозможными событиями. И хотя Грейс никогда не считала себя очень мягкой и милой особой, ничего страшного в этом не было. Она заботилась о своих пациентах, и ей было вовсе не безразлично, что эти люди делают и что с ними происходит после того, как они покидают ее кабинет. Она считала это нормой. Ей тоже часто звонили посреди ночи в течение многих лет, и она всегда отвечала на эти звонки и делала то, что должна была делать. Ей приходилось даже беседовать с потерявшими голову от безысходности людьми в отделениях экстренной медицинской помощи, связываться по телефону с диспетчерами, парамедиками и специалистами приемных отделений разных больниц и реабилитационных центров по всей стране.
Однако ее стандартная настройка была на режиме «выкл», а не «вкл». Так что если не приходилось волноваться за перевозбужденное состояние или депрессию пациентов, или задумываться о том, станут ли они ходить к ней каждый день, как обещали, в остальном она ни о чем не тревожилась.
А вот Джонатан был совсем другой породы. Он обладал прямо-таки губительной добротой, этот исключительно бескорыстный человек, абсолютно лишенный эгоизма. Он мог успокоить и умирающего ребенка, и почти потерявших надежду родителей, найти для них нужные слова. Иногда одно только его прикосновение возвращало и укрепляло эту надежду, которой, казалось, уже не было места в их душах. И делал он это умело и обязательно с исключительной добротой.
Бывали времена,