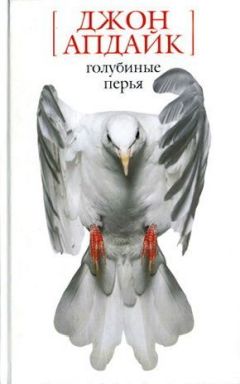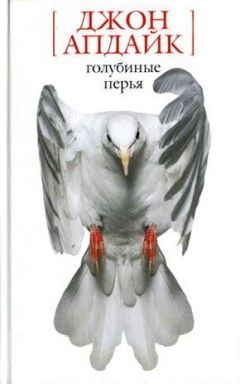– Донлон был когда-нибудь в этом здании?
– Мне об этом, во всяком случае, ничего не известно. Я покачал головой.
– И все же я многого не понимаю, – сказал я.
– Я верю, что вы хорошо знаете свое дело, – приободрил меня епископ. – Понимание к вам придет.
– Будем надеяться, что вы правы. – Я поднялся на ноги. – Спасибо, что позвонили мне, а не в полицию.
– Вы уже заметили, что у меня были на это свои скрытые причины, – улыбаясь ответил он.
– Все равно спасибо.
– Позвоните мне, если что-нибудь узнаете.
– Разумеется.
Я кивнул Халмеру, и мы вышли на улицу. Тогда Халмер спросил:
– Он что – слепой?
– Да.
– Я так и подумал, но в такой темноте как следует не разберешь.
– Ты его никогда раньше не видел?
– Нет. По делам с ним общались Эйб и Терри. Они не говорили, что он слепой. Да и правильно.
– Как он тебе показался?
– Епископ-то? Не знаю, по-моему, он – святой. Если вы, конечно, верите в святых.
– Тогда ты не думаешь, что убийца находится в этом здании?
– Самаритянин? – Он покачал головой. – Не может быть, мистер Тобин.
– Будем надеяться, что ты прав, – сказал я. Мы с Халмером сели в машину, развернулись и поехали назад. Когда мы проезжали мимо машины с трупом Донлона, я заметил, что у двери рядом с тротуаром столпились дети и, возбужденно переговариваясь друг с другом, заглядывают в окно.
Робин находилась в палате, в которой больницей и не пахло. Она скорее производила впечатление тюремной камеры. Решетки на окнах, охранник в форме у двери, серые стены, невзрачная мебель.
И уныние на лице Робин. Она, казалось, стала еще тоньше, вокруг глаз появились темные круги, а выражение их было близким к отчаянию.
Она завернулась в отчаяние, как в накидку, защищающую ее от холодного ветра реальности. Ради матери она попыталась спрятать его за оживленной улыбкой, но это была лишь жалкая попытка замаскировать свои истинные чувства.
Больно было смотреть на них – дочь притворялась веселой и бодрой, а мать делала вид, что принимает это за чистую монету. Первые несколько минут я стоял в стороне, чтобы дать им хотя бы немного пообщаться друг с другом без помехи, наблюдая, как сквозь маски фальшивой бодрости и уверенности в каждом слове, в каждом жесте, в каждой вымученной улыбке сквозило отчаяние.
Рита Гибсон – нет, Рита Кеннеди – казалась мне совершенно незнакомой. Ничто в расплывшихся чертах лица этой женщины средних лет не напоминало то лицо, которое осталось в моих юношеских воспоминаниях. Ее одежда была типа той, которую жены, живущие на мужнину зарплату, покупают раз в пять лет на Пасху; алые гвоздики на лилово-фиолетовом фоне, цвета, которые плохо смотрятся при ярком солнечном свете и кажутся поблекшими уже вечером того же дня, когда одежду надели впервые. Для такой погоды она оделась слишком тепло, и, приехав сюда, она уже выглядела измученной и несчастной, что, несомненно, не могло не сказаться на ее состоянии, добавив к напряжению, которое она испытывала при виде дочери, еще и телесные муки.
Она сразу же подошла ко мне в вестибюле и попыталась вступить в ни к чему не обязывающий разговор – о погоде, о метро, но я прервал ее:
– Давай лучше помолчим – так будет легче.
Она взглянула на меня с удивлением и благодарностью:
– Спасибо.
На этаже, где находилась Робин, у лифта стоял полицейский. Мое присутствие ему не понравилось, но миссис Кеннеди – я не мог даже мысленно назвать ее Рита – уверила его, что я – родственник, и он пропустил нас, вручив каждому белый пластмассовый пропуск.
Пока мы шли по коридору, миссис Кеннеди, не глядя на меня, сказала:
– Я знаю, что у тебя в последние годы хватило и своих неприятностей, Митч. И не виню тебя в том, что ты не хотел впутываться в эту историю. Извини, что я приходила к тебе домой и пыталась заставить помочь нам.
– Тогда, – ответил я, – мне не верилось, что от меня может быть какой-то прок. Да и сейчас не знаю, смогу ли помочь.
– Я день и ночь молюсь, – сказала она, – чтобы Бог помог тебе, а ты – нам.
Мы показали наши пропуска стоявшему возле двери охраннику, он щелкнул замком, и теперь вот мы были внутри – я, отойдя в самый дальний угол и стараясь не привлекать к себе внимания, а мать с дочерью тем временем тщетно пытались скрыть друг от друга свои истинные чувства.
Робин бросила только мимолетный взгляд в мою сторону, и я был даже не уверен, узнала ли она меня. Когда миссис Кеннели наконец произнесла:
– Дорогая, с тобой также хочет поговорить Митч Тобин, – Робин повернула голову и посмотрела на меня с покорным ожиданием запуганного ребенка.
– Как дела, Робин? – спросил я.
– Хорошо, – слабым голосом ответила она. Глупый вопрос и машинальный ответ, но мне нужно было что-то сказать, а я был не готов к разговору. Собственно, я уже узнал то главное, зачем сюда пришел: убедиться, надежно ли охраняют Робин. Убийца теперь наносил удары налево и направо, испытывая страх, причина которого мне была пока не ясна, и в любой момент мог прийти к выводу, что совершил ошибку, оставив в живых Робин Кеннеди, свидетельницу, которая не сегодня-завтра могла разобраться в хаосе, творящемся в ее голове и начать давать показания. Он пошел тогда на оправданный риск, в расчете на то, что если она когда-нибудь потом и сумеет вспомнить все то, что видела, то ей никто не поверит, но с тех пор, возможно, охоты рисковать у него здорово поубавилось. Если бы он мог как-то проникнуть сюда и разделаться с Робин, выдав это за инцидент или самоубийство, и выбраться отсюда незамеченным, тогда мог бы вздохнуть с облегчением. В этом случае не было бы ни суда над Робин, ни дальнейшего расследования, ни опасения, что единственный свидетель вдруг заговорит.
Поэтому я хотел выяснить, какова вероятность, что ему это удастся – проникнуть к Робин и выбраться отсюда – и теперь я убедился, что вероятность эта ничтожно мала. Охраны было достаточно, чтобы исключить возможность проникновения к ней постороннего.
Если, конечно, убийца не был полицейским. Тем самым, со странностями, приятелем Айрин. Который как-то был связан с Донлоном.
Но об этом я потом подумаю. А сейчас Робин стояла посреди комнаты, глядя на меня – вежливо, терпеливо и отстранение. Я спросил:
– Робин, можно поговорить с тобой о том, что произошло в то утро, или ты расстроишься?
Она слабо улыбнулась и покачала головой:
– Я не расстроюсь. Я просто ничего не помню.
– На чем обрывается память? На том, как ты поднялась наверх?
– Нет, сэр. Я вообще ничего не помню про то утро.
– Ничего? Ни как ты встала? Ни как ехала с Терри и Джорджем в машине?
– Вообще ничего. Конечно, впоследствии мне об этом рассказали, поэтому я знаю, как и что, но вспомнить ничего не могу.
– А потом? Ты помнишь, как увидела меня, когда спустилась вниз?
– Вас, сэр? – Она наморщила лоб. – Нет, ничего не припомню до тех пор, пока не очнулась здесь. Легла в свою кровать предыдущей ночью, заснула и проснулась здесь. – Она вымученно улыбнулась матери. – Жуткий был момент.
– Врачи с тобой беседовали? – спросил я.
– Психиатры, вы хотите сказать? Да, конечно. – Она снова наморщила лоб и спросила:
– А вы там были? В “Частице Востока”?
– Да. Когда ты спустилась вниз.
– Почему?
– Почему я был там? Ты меня попросила прийти.
– Я попросила? Простите, но я ничего не помню. Это было в то утро?
– Нет. За день до того. Ты пришла ко мне домой. Разве ты этого тоже не помнишь?
– В какой дом?
– В мой дом.
Мать ее, приходя во все большее отчаяние, теперь вмешалась в разговор:
– Робин, дорогая, ты не устала? Может, тебе отдохнуть? Мы можем прийти в другое...
– Нет, не надо, – перебила Робин. – Я хочу, чтобы вы знали. – Глядя на меня, она сказала:
– Я не знаю, кто вы такой. Ваше лицо мне кажется знакомым, но где я вас видела, припомнить не могу.
Миссис Кеннеди, голосом, почти срывающимся на истерический визг, поспешно произнесла:
– Он – твой родственник, деточка. Твой троюродный брат, мистер Тобин. Ну, ты помнишь, он раньше служил в полиции.
– Ты хотела, чтобы я поговорил с Донлоном, – добавил я – С кем?
Меня пробрал холодок. Я спросил:
– Донлона ты тоже не помнишь?
Взволнованная, напуганная, ради матери все еще пытаясь держаться, Робин с несмелой улыбкой блуждала взглядом по нашим лицам.
– Что со мной? У меня амнезия? Мама, я все помню. Кроме того утра.
– И кроме меня, – добавил я. – И Донлона. Почему, по-твоему, ты ни его, ни меня не можешь вспомнить? Потому что мы оба – полицейские?
– А вы – полицейский?
– Был раньше. Тебе знакомо имя Айрин Боулз?
– Конечно. Это девушка, которую, говорят, я убила.
– А помнишь, как она выглядит? Она покачала головой. Я спросил:
– Робин, как ты думаешь, это ты их убила?
Она широко раскрыла глаза, наступило молчание, и внезапно она залилась слезами. Закрыв лицо руками, она, пошатываясь, двинулась назад, пока не наткнулась на кровать, тяжело опустилась на нее и отвернулась к стене. Ее рыдания походили на судорожный всхлип.