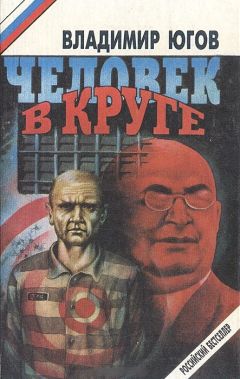— Почему мои письма читает весь поселок? — Якобы спросил Волов. (Это жена Прошина рассказывала).
— Не знаю. Интересно, наверное. Письма в дом идут. Здесь читают о тех, кто интересен. Ты для них пока интересен. Разве плохо им знать, Сашок, как ты жил? Тут Маша о тебе все распускает. Плюнь! Я говорю: безвыходных положений у таких, как ты, не бывает. Покумекай. Грозит тебе Васька, — уладь все честь по чести. Он ведь убьет, — и не посадят. Куда его еще дальше ссылать? В океан, что ли?
Будто и хотел Волов уладить через Вальку-молочницу. Даже пошел к ней на ферму. Валька так рассказывала: ловко стреляла тугими струйками молока. А ему так захотелось посмотреть! Открыл дверь. На сене спал завхоз Местечкин.
Валька-молочница якобы приветливо посмотрела на вошедшего, а сама все журчала и журчала руками, были они у нее ловкие, радостные, уверенные. Жур-жур-жур!
Даже неспокойная корова заворожена Валькиным доением, она не лягается, лишь обходит мелко-мелко подойник.
Ерка из своего угла глядел на Вальку-молочницу во все глаза. Он не мигая следил за проворностью Валькиных рук.
Валька-молочница тихохонько запела:
Ах, ты, зайка-заинька,
Зверушонок маленький!
У такого зюзика
Серенькое пузико!
— Ты чево, старшина боевой, пришел?
А он вроде махнул рукой и не ответил, ушел. Ежели б знать, ежели б знать!
А Васька уж поджидал, сатана! Будто Галина, племянница Вениаминыча, шла как раз мимо. Он с ней пошутил насчет ее замужества: дескать, теперь ярмо?
— Отбегалась, Васенька! Отбегалась! — Она неистово стала будто целовать чистую морду Васькиного вожака.
— Меня лучше поцелуй, — Васька был не пьян.
— Хай тебя черти целуют! — засмеялась Галина.
— У-у, какой злой! Русский баба миня никогда не любил!
— Тебя и ненка разлюбила.
И подлила, видно, масла в огонь. Может, и не думал он в этот раз стрелять. Волов же сам напоролся. Он шел поначалу к директору, вдруг вернулся, заглянул на свою квартиру: жил еще у Маши-хозяйки, жил с беременной Наташей, хотя ему предложили к весне отсюда мигом выбраться…
Васька стрелял в упор, сразу из двух стволов. Одна пуля попала в сердце, а другая пробила насквозь горло. Васька будто бы так и стоял, не шелохнувшись. Он дал Мамокову себя разоружить, потом долго и горько плакал, валяясь у порога, где лежал поблекший и очень похудевший в последнее время Волов. Больше всех, говорят, убивался в первые часы Сережка. Успокаивал его в прошлом убийца Вениаминыч. Он заранее знал, что этим все и кончится.
Похоронили Волова рядом с ветеранами: Ерофеичем и дядей Колей. Дядя Коля умер под новый год. Тоже, рассказывают, было дело. Будто и он приходил к Прошину не как к начальнику почты, а как к общественному деятелю. Возмутило его будто, что Витька, спьяна, когда дядя Коля упрекнул его за то, что тот стрелялся с отцом, вызвал и его на дуэль, чтобы прикончить всех стариков в поселке.
Слезы обильно катились по лицу дяди Коли.
— Заголимся! — говорил он вместо «здравствуйте». — Ну, что же вы стоите, Прошин? Заголимся! Заголимся! — уже кричал он. — Вы не читали рассказ… Это у Достоевского… По-моему, «Колобок»… Нет, «Бобок»… Там покойники выскакивают из могил с неожиданным кличем: «Заголимся!» Они, они! — Он показывал в сторону Витькиного дома. — Они кричат: «Заголимся!» Мода! Заголимся! Всех стариков, как собак, убить грозят. Умер Вакула, кузнец всей планеты. Неужели вы станете остальных умертвлять, Прошин?
Прошин, как всегда, что-то чертил к какой-то сессии. Он смеялся над чудачеством старика, который близко к сердцу воспринимает брехню Витькину. Это же бред сивой кобылы!
Ваське дали пять лет. Условно. Его завезли сначала за сто верст от отцовского чума. Но в первые же пять дней он прибежал. А потом стал бегать чаще и чаще. Мамоков махнул рукой.
— Чё с ним поделаешь? Их и так мало, — отвечал он на упреки русских.