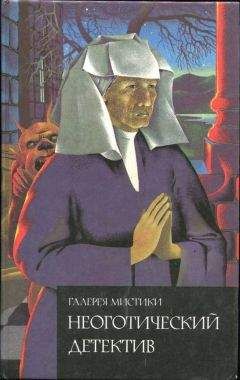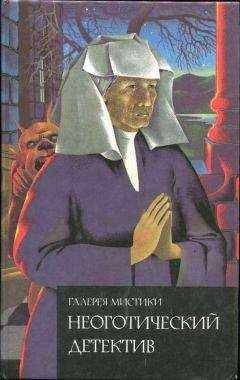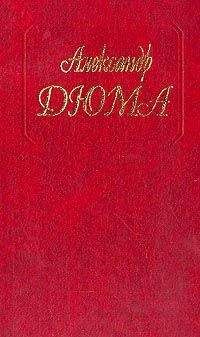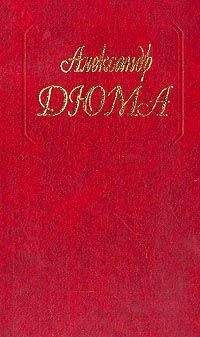— Тебя он тоже может убить.
— Меня это не трогает. Мне не для чего жить.
— Ладно же. Ты сама напрашиваешься на неприятности.
Куинн нырнул на заднее сиденье и схватил ее. Она поглубже вдохнула и открыла рот, чтобы завизжать, но он успел зажать ей рот рукой.
— Слушай, сумасшедшее дитя. Ты впутаешь в беду нас обоих. Я просто не могу взять тебя с собой в Сан-Феличе. Тебе понадобятся деньги, платья и кто-нибудь, кто смог бы за тобой присматривать. В Тауэре тебе не нравится — ладно; но здесь по крайней мере ты защищена. Подожди, пока подрастешь, тогда сможешь отсюда уехать по собственной воле. Ты меня слушаешь, Карма?
Она кивнула.
— Если я уберу руку, обещаешь успокоиться и разумно все обсудить?
Она снова кивнула.
— Хорошо, — он убрал руку с ее лица и устало откинулся на спинку сиденья. — Я тебя не обидел?
— Нет.
— Какой тебе годик, Карма?
— Скоро будет двадцать один.
— Не сомневаюсь. И что ты собираешься дальше делать? Валяй, только без вранья.
— Мне шестнадцать, — помолчав, угрюмо призналась она. — Но я уверена, что легко нашла бы в городе работу и заработала деньги на лекарство для лица. Чтобы выглядеть как другие девочки.
— У тебя очень красивое лицо.
— Нет, оно ужасно. Все эти жуткие красные штуки… говорят, они пройдут, когда я вырасту, но мне что-то не верится. Они никогда не исчезнут. Мне нужны деньги, лекарства, чтобы от них избавиться. Мне об этом одна учительница сказала в прошлом году, когда я ходила в школу. Мазь от прыщей, так она это называла. Она была красивая, а мне рассказала, что у нее у самой были прыщики и она понимает, что я чувствую.
— И из-за этого ты хочешь уехать в город? Чтобы купить мазь от прыщей?
— Ну, это то, что я сделала бы в первую очередь, — робко улыбнулась она, проведя рукой по щекам. — Мне это очень нужно.
— Предположим, я тебе пообещаю, что куплю мазь и прослежу, чтобы ты ее получила. Сможешь ты тогда отложить поездку в город до тех пор, пока будешь в состоянии сама о себе позаботиться?
Она долго думала, нервно накручивая на палец прядь волос.
— Вы просто пытаетесь от меня избавиться?
— Это само собой. Но помочь тебе я тоже хочу.
— А когда вы сможете прислать мне мазь?
— Как можно скорее.
— Как вы узнаете, какое именно лекарство нужно?
— Это как раз не проблема. Спрошу у фармацевта. Ну, у человека, который торгует лекарствами.
Она повернулась и посмотрела на него очень серьезно.
— Вы правда считаете, что я буду красивой? Такой же красивой, как девочки в школе?
— Конечно, будешь.
Заметно стемнело, но девочка по-прежнему сидела в машине и как будто не собиралась возвращаться в Тауэр.
— Все здесь такие безобразные, — пожаловалась она. — И грязные. Даже полы в Тауэре чище, чем мы. В школе были души с горячей водой и настоящее мыло, и у каждого — свое большое белое полотенце.
— А ты давно в Тауэре, Карма?
— Четыре года. С тех пор как его построили.
— А до того?
— Мы жили в другом месте, тоже в горах, к югу от гор Сан-Гэбриэл. Но там не было башни — просто несколько деревянных лачуг. А потом, вслед за матерью Пуресой, мы пришли в Тауэр.
— Она тоже была обращенной?
— Да, только богатой. У нас таких немного. Богатые, наверное, слишком заняты, тратя деньги на развлечения, чтобы заботиться о грядущем.
— А ты заботишься, Карма?
— Учитель меня пугает, — горько вздохнула девочка. — У него такие странные глаза… А вот сестру Благодеяние я совсем не боюсь. Не так уж я ее ненавижу, как говорила. Она каждый день молится, чтобы у меня исчезли прыщи.
— Ты знаешь, где она сейчас?
— Каждый знает. Она в заточении.
— Надолго?
— На пять дней. Наказание всегда длится пять дней.
— А ты знаешь, за что ее наказали?
Карма покачала головой.
— Братья и сестры вчера много говорили о ней, брате Венце и Учителе. Но шепотом, я почти ничего не расслышала. А в полдень, когда мы с мамой шли готовить обед, сестру Благодеяние увели, и брат Язык плакал за печкой. Он ее просто обожает, потому что она с ним нянчится, когда он болеет. Единственный, кто радовался, — брат Венец, но он подлее самого дьявола.
— Давно он стал обращенным?
— Дайте вспомнить… появился он здесь через год после постройки Тауэра. Это, стало быть, будет три года назад, да?
— А сестра Благодеяние?
— О, она с нами жила еще в горах Сан-Гэбриэл. Столько же, сколько самые первые обращенные, даже те, кто уже ушел, потому что поссорился с Учителем, как мой отец.
— Где твой отец сейчас, Карма?
— Не знаю, — шепотом сказала она. — И спросить не могу. Когда кого-нибудь изгоняют, его имя больше не упоминается.
— А ты не слышала, чтобы кто-нибудь хоть раз поминал о человеке по имени Патрик О'Горман?
— Нет.
— Ты сможешь запомнить это имя? Патрик О'Горман.
— Смогу. А зачем?
— Я хочу тебя попросить, чтобы ты навострила ушки, — улыбнулся Куинн. — Только никому не говори, что я тебя об этом просил. Пусть останется между нами так же, как твоя мазь. Идет?
— Да, — она снова провела рукой по лицу, бегло исследовав щеки, лоб и подбородок. — Вы правда думаете, что я буду красивой, когда сойдут прыщи? Честно?
— Я не думаю. Я знаю.
— А как вы перешлете мне мазь? Учитель вскрывает всю почту. И выбрасывает то, что ему кажется лекарством. Он не верит в лекарства и в докторов. Только в свою веру.
— Я тебе его сам привезу.
Стало уже слишком темно, чтобы видеть ее лицо, но Куинн уловил слабый протестующий жест.
— Они не хотят, чтобы вы снова сюда приходили, мистер Куинн. Думают, вы навлечете беду на колонию.
— Вряд ли. Колония сама по себе меня не интересует.
— Но вы же все время сюда приходите.
— Ну, в первый раз я попал сюда случайно. А во второй — чтобы сообщить сестре Благодеяние те сведения, которые ее интересовали.
— Это честная правда?
— Да, — сказал Куинн, улыбнувшись необычному обороту и серьезности, прозвучавшей в ее голосе. — Однако становится совсем поздно, Карма. Тебе лучше вернуться, пока они не примчались сюда, чтобы меня линчевать.
— Меня не хватятся. Я сказала маме, что собираюсь лечь, потому что у меня болит горло. А сама она допоздна занята на кухне. Сейчас я уже была бы на полпути в город, — с горечью добавила она. — Только не вышло. И я все еще здесь. И буду здесь, пока не умру. Стану старой, безобразной и грязной, как они все. Ох, как бы мне хотелось умереть прямо сейчас, в эту самую минуту! Уйти на небо прежде, чем совершу все грехи, которые мне придется совершить, когда я смогу послать подальше Учителя с его разговорами и у меня появятся красивые платья и туфли, и я каждый день смогу мыть волосы настоящим шампунем.
Куинн вышел из машины и придержал для нее открытую дверь. Она выбралась нарочито медленно и неуклюже.
— Дорогу найдешь? — спросил Куинн. — Уже темно.
— Я эту дорогу вдоль и поперек знаю. Миллион раз по ней ходила, не меньше.
— Ладно, до свидания.
— Вы в самом деле вернетесь?
— Да.
— И не забудете про лекарство от моих прыщей?
— Нет. А ты не забудешь про наш договор?
— Навострю уши, стоит кому-нибудь хоть упомянуть про О'Гормана. Хотя я не думаю, что это случится.
— Почему?
— Нам не разрешается говорить о людях, которых мы знали раньше, до обращения. А в колонии никакого О'Гормана никогда не было. Когда я ухаживала за матерью Пуресой, то разыскала книгу, которую Учитель хранит у себя. Там все наши прежние имена — ну, как звали братьев и сестер до их обращения. А у меня очень хорошая память.
— Можешь вспомнить имя сестры Благодеяние?
— Конечно. Мэри Эллис Фэзерстоун. Она жила в Чикаго.
Куинн расспросил ее и о других именах, но ни одно из них ему ни о чем не говорило. В свете восходящей луны он провожал глазами Карму, возвращавшуюся в Тауэр. Шла она вприпрыжку, будто совсем забыла, как только что хотела умереть и целиком предалась мыслям о грехах, которые она совершит, когда придет ее час.
Куинн без приключений добрался до Сан-Феличе, остановился в прибрежном мотеле и отправился спать.
К девяти утра солнце успело разогнать почти весь туман. Спокойное море блистало праздничным многоцветьем — небесно-голубое на горизонте, коричневое в местах скопления бурых водорослей и серо-зеленое в самой бухте. Воздух был теплым и безветренным. Двое детей, едва научившихся ходить, терпеливо сидели в крохотной парусной плоскодонке, дожидаясь порыва ветерка.
Куинн пересек пляж и направился к волнорезу. На дверях конторы Тома Йоргенсена красовался внушительный висячий замок, но сам он восседал тут же, на бетонной стене, беседуя с каким-то седовласым типом в яхтсменской фуражке и безупречно белом парусиновом кителе. Через минуту седой с гневным жестом повернулся и двинулся вниз, к пришвартованным у берега шлюпкам.