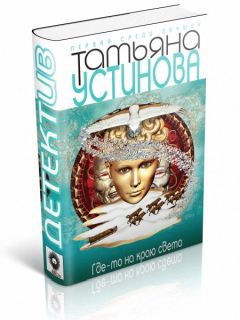– Все на месте? – спросил Преображенцев и подсунулся так близко, что Лиле пришлось немного податься назад на пикейном покрывале. – Ты смотри, смотри!..
– Я смотрю…
Его неожиданная и никчемушная близость – черный свитер, загорелое ухо с дыркой для серьги, щека, подернутая блестящей и светлой, как лед, щетиной, – мешала ей. Интересно, почему щетина светлая, если волосы темные? Так бывает, что ли?
Лиле вдруг стало до того неловко, что она выпрямила спину, приняла специальный московский вид – коронный номер! – и слегка отпихнула Олега.
– Все на месте, – заявила она своим московским тоном. – Очень хорошо, что нашлась! – и любовно погладила сумку по сияющей лаком самодовольной морде. – Мне ее подарил… близкий человек.
– …а те шестьсот рублей так и пропали, – продолжала Таня. – Куда-то они их сбагрили! Между собой попрятали, и поминай как звали! Как они сюда попали тогда, цыгане эти, ума не приложу. В те годы в погранзону въехать…
– И она дорогая очень, – перебила ее Лиля, потому что «близкого человека» Преображенцев пропустил мимо ушей, а нужно, чтоб не пропустил! – Стоит три тысячи евро!
Таня засмеялась:
– Да ну, глупости какие! Что это за сумка такая? Бриллиантовая? Побегу кофейку сварю, а? Или лучше чаю покрепче, с метели-то! А то напугала ты меня – сумку украли! У нас тут сроду ничего не крали! Побегу, и вы приходите, ребята!
Она нагнулась, поправила ковер, по коридорчику протопали ее шаги, и стукнула дверь.
Олег Преображенцев очень близко взглянул Лиле в глаза:
– Точно все на месте?
Лиля вдруг как будто очнулась. Специальный московский тон – коронный номер! – три тысячи евро и «близкий человек» были моментально забыты.
– Олег, как она сюда попала?! Я ее не забывала, совершенно точно не забывала!
Они разом отшатнулись друг от друга и стали оглядываться. Комнатка в полном порядке. Никаких следов… вторжения.
– Ключи только у меня и у Тани с Левой, – бормотала Лиля, – или они еще кому-нибудь их давали? Надо спросить! Тут же кто-то жил до меня, правильно? Может, оставил себе ключи! Только зачем, зачем?!
Она вновь сунулась в сумку и стала ожесточенно рыться. Преображенцев все оглядывался.
– Кошелек здесь, деньги… деньги в нем…
– Все?
Лиля пожала плечами:
– Я не помню, Олег! Там вроде было три тысячи или четыре… – Она потрясла у него перед носом купюрами. – Блокнот, ручки две… Вот записочка от мамы, она мне всегда на дорогу пишет… это что такое?.. А, квитанция, я за телефон платила… Стоп, – вдруг сказала она тихо и твердо, – паспорта нет.
Он не стал спрашивать, точно ли, не точно! Он сразу поверил, что паспорта нет.
– Ну кому нужен мой паспорт, а? Кредит, что ли, по нему получать? Ипотеку в Анадыре? – Она жалобно говорила еще какие-то жалкие слова и все вытаскивала и складывала на покрывале разные штучки, он молча думал.
Наконец все штучки кончились.
– Сядь, Олег, – предложила она устало. – Не маячь.
На единственном стуле лежали какие-то вещи, и он приткнулся рядом с ней на кровать.
– А в шубе у тебя карманов нет? – спросил задумчиво. – Ну, чисто теоретически.
– Чисто теоретически у меня не шуба, а кухлянка, и карманов в ней нет. Олег, я совершенно точно пришла на работу с сумкой! Вот с этой самой! Ни паспорт, ни кошелек, ни ключи я из нее не вынимала.
– Ты пришла сегодня… сама или тебя привезли?
– Алена привезла, – обиделась Лиля.
Впрочем, какое ей до него дело?! Нравилась, разонравилась – к ней-то это отношения уж точно не имеет! У нее в Москве любимый человек – это раз! Сама она в ссылке на Крайнем Севере – это два! Паспорт у нее пропал – три! Странные вещи какие-то происходят – четыре!..
– Где ты ее обычно оставляешь?
– Алену?!
– Сумку.
– Не знаю. Где попало. Около стола. Или в соседнем кресле. Или на полу.
– К трем приехал я, и мы вместе в фонотеке копались. Потом пошли в эфир. Ты кофе варила… сколько раз?
– Два. Совершенно точно. Второй раз перед тем, как игру в детективы объявить. Или сразу после.
– К своему столу ты не подходила, тебе нужно было в студию вернуться. То есть верных два часа у него имелось… А то и больше.
– У… кого, Олег?
– У того, кто взял твою сумку и зачем-то принес ее сюда.
– Где взял?!
– На «Пурге», где же еще!
– То есть ее взял кто-то из наших?!
Он промолчал. Это совершенно очевидно и не требует никаких пояснений. Но ему вдруг понравилось слово «наши», за которое зацепилось его диджейское ухо. Так понравилось, что он улыбнулся.
С каких пор сотрудники радиостанции в Анадыре стали для московской фифы «нашими»?
– Зачем кому-то красть мою сумку? Ну, хорошо, не красть, а брать? А потом возвращать?! Да еще не на место, а приносить ее сюда! И паспорт! Олег, где мой паспорт?! Зачем его забрали?!
Преображенцев догадывался – зачем, но говорить не стал. Он не хотел ее пугать.
Здесь Чукотка, особая территория. Здесь все не так, как на материке. Здесь сложнее и проще – другие правила, другая система координат.
Олег Преображенцев ориентировался в этой системе отлично, но воронка событий, которая закручивалась вокруг Лили, казалась ему зловещей и опасной, как припорошенная снегом полынья в береговом льду. Шагнешь неосторожно – и пропадешь. Никто не спасет.
– А может, паспорт тоже где-нибудь припрятали, а? Ну, раз сумку вернули! Может, мы поищем его и найдем?
Лиля вскочила и побежала к гардеробу.
Зазвонил телефон – остроугольное чудовище красной пластмассы, мутно отражавшееся в полированной тумбочке. У губернатора Романа Андреевича был точно такой же, только желтый и с гербом посередине.
Лиля схватила трубку.
– Лилек, ну что вы там застряли? – спросила в трубке Таня. – Спускайтесь, у меня все готово! Ужин на столе!
– Я не хочу ужинать, – пробормотала Лиля, швырнув трубку, – я хочу понять, кто спер мой паспорт! И не надо называть меня Лилек! Потому что я не Лилек!
Она вернулась к гардеробу и уставилась на полки.
– Олег, – сказала она через секунду. – Здесь все не так.
Он встал и подошел.
– Все лежало совсем иначе. Вот эта стопка на той полке, а белье с другой стороны.
И он опять не стал спрашивать, точно ли, не точно! Он сразу поверил, что в ее вещах кто-то копался.
– В моих вещах рылись, да? Да, Олег?! Таня?.. Больше ведь некому, да? Что ей от меня нужно? Это она взяла мою сумку? Она же так быстро ее нашла!
– Лиля, твою сумку могли взять только наши, с радио. Точно не Таня! В принципе мог прийти кто-то чужой, пока мы были в эфире, но это легко проверить! Без пропуска Богданыч никого не пустит, ты сама знаешь, а кто приходил, можно посмотреть, у него все записано.
– А вещи?! – крикнула Лиля и топнула ногой в меховом сапоге из оленьих камусов и нерпичьей кожи. – Кто и зачем копался в моих вещах?! Хотя… подожди…
– Что?
Она еще немного постояла возле гардероба, а потом ринулась вниз.
Лиля уселась за стол, покрытый жесткой и переливающейся от крахмала скатертью, пристроила на соседний стул свою сумку и наугад открыла тяжелую кожаную папку-меню.
«Медальоны из оленины», – было солидно написано на плотном желтом листе. «Корюшка анадырская», в скобках – по сезону. «Филе чира запеченное».
Черно-белый официант – все как полагается – зажег длинную свечу в бронзовом канделябре с завитушками.
В глазах у Лили все расплывалось и двоилось, и ровное пламя сразу разъехалось и как будто приблизилось. Официант не уходил, а Лиля знала, что стоит ей моргнуть, как слезы закапают на «корюшку анадырскую» и «чира запеченного». Она не желала, чтобы официант увидел, как они закапают.
– Принесите мне воды, – сказала она, очень стараясь говорить ровно и холодно, по-московски, – газированной, со льдом. У вас есть лед?
Ей было так стыдно, что жить не хотелось. Не хотелось сидеть прямо, читать меню, складывая буквы в слова, и принимать московский вид. Ей хотелось забраться куда-нибудь, хоть под стол, и чтобы ее никто не видел и ни о чем не спрашивал – никогда.
В последний раз ей было так стыдно много лет назад, когда подружке Ирке из класса ни с того ни с сего купили роскошные белые сапоги, а у Лили не было вообще никаких сапог, только какие-то невразумительные ботинки, и она прибежала домой, кинулась на диван рыдать и кричала матери, что та ничего, ничего не может и не хочет сделать для единственной дочери! Мать сначала не поняла, утешала ее, гладила – Лиля дергала спиной, и сбрасывала руку, и ненавидела ее, подвывала и давилась, – а когда поняла, поднялась и ушла на кухню. Лиля рыдала еще довольно долго и очень громко – мать должна была слышать, как она рыдает, и понимать, как дочь страдает. Потом мама вернулась и стала просить у Лили прощения за то, что живет бедно и трудно, что сил у нее мало, а тех, что есть, никак не хватает на белые сапоги, хорошо бы долги за свет и за газ заплатить, а то ведь придут и отключат! На шум явился коммунальный сосед Лев Мусаилович, древний, как Стена Плача, и несчастный, как судьба всего еврейского народа, – он страшно не любил ссор и боялся их. Узнав причину Лилиных страданий, Лев Мусаилович выпрямился во весь свой крошечный рост, и голова у него затряслась.