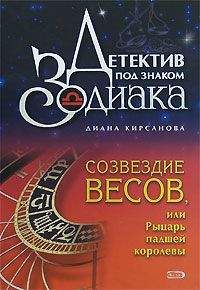Ознакомительная версия.
Дядя Веня вовсе не был авторитетом в области человеческой психологии, а я вовсе не за тем пришел в родительский дом, чтобы задавать ему вопросы по этой части. Но я знал, отчим воспрянет духом, как только я дам ему понять, что нуждаюсь в нем.
Так и произошло.
– Что тебя интересует, мальчик? Говори, если я могу чем-то помочь…
– Да, можешь. Скажи, а история действительно знает немало примеров, когда женщина становилась серийным убийцей? – спросил я прямо в лоб.
Он вздрогнул и посмотрел на меня очень внимательно, неожиданно близоруко сощурясь.
– Какой странный интерес возник у тебя сегодня… Это простое любопытство?
– Не совсем. Это… Ну, в общем, это нужно для моей статьи. Готовим интересный аналитический разворот.
– О женщинах-маньяках?
– Вроде того.
– Что ж… наверное, нынешним читателям это интересно. Не знаю, никогда не понимал, что может быть привлекательного в подобных исследованиях… Ты же знаешь, я даже детективов никогда не читал. Но… раз уж это для тебя важно… Подожди.
Он поставил свою чашку на стол и вышел – направился в библиотеку разыскивать нужные мне сведения. Я чуть выдвинулся в коридор, чтобы продолжать вести разговор с отчимом прямо из кухни, малые габариты квартирки позволяли это.
Не пришлось даже особенно напрягать голос:
– Как твоя работа?
– Все по-прежнему. Сейчас реставрируем передвижников. Приводим в порядок. Музей готовит большую экспозицию…
Он заговорил о работе, все больше воодушевляясь, – я знал, что работа в реставрационных мастерских всерьез занимает дядю Веню, – но, начав слушать его, я скоро потерял нить разговора. Потому что в кухню, где мы сидели, вошла Мамона.
Меня потрясла произошедшая с ней перемена. Еще недавно прямая и стройная, со свежеуложенной прической, с задранным подбородком, неприступная настолько, что посетители музея долго собирались с духом, чтобы подойти к ней с каким-нибудь незначительным вопросом, сейчас Мамона выглядела просто старухой. Нет, не «просто» старухой – а старухой, которую ест изнутри какая-то болезнь.
При взгляде на ее раскисшее, отекшее до почти полной бесформенности лицо к моему горлу подступил комок. Когда-то большие, строгие голубые глаза моей матери казались выключенными – в глазницах ворочались только желтые белки с расплывшейся точкой зрачка, а седые волосы, некогда покрывавшие голову Мамоны аккуратными волнами тщательно взбитых коков и завитушек, теперь были похожи на свалявшуюся паутину.
Платье с неизменной камеей у ворота висело на ней, накинутая сверху шаль подчеркивала исхудавшие плечи.
– Ну, еще раз здравствуй, дорогой, – придерживая себя за бок, она уселась в свое кресло – единственное кожаное кресло с викторианской спинкой в этой кухне.
На меня повеяло смешанным запахом духов, валокордина и несвежего старческого дыхания.
Теперь, когда она говорила, у нее под подбородком студенисто колыхались обвисшие кожные складки. Раньше этого не было. Боже мой, сколько же я не видел свою мать?! Быстро произведя мысленные расчет, я сам ужаснулся итогу: четыре месяца…
Неужели?! Да-да – четыре месяца!
– Как ты себя чувствуешь, мама?
– Ты знаешь, немного нездоровится. Врачи ни с того ни с сего обнаружили у меня язву – подумать только, язву в пятьдесят пять лет! Но, говорят, такое бывает. И ничего страшного, в наше время это прекрасно лечится. И Дидро болел язвой, и Панаев, и Мамин-Сибиряк… – как-то некстати добавила она. А впрочем, понятно: Мамона, конечно, гордится, что ей приписали такую «интеллигентную» болезнь.
– Но тебя лечат?
– Ну что ты, сынок, конечно. Сейчас медицина просто творит чудеса. Меня обещают поставить на ноги через два-три месяца. Это пройдет…
По видимому только здоровым людям ореолу скорой смерти, который висел над головой Мамоны, я видел, что врачи ее не обманывают. Они просто не договаривают всего до конца. Да, «язва», которая грызет ее внутренности, безусловно, пройдет совсем скоро. Но она «пройдет» только вместе с ней самой…
Это не язва, не язва. Не так уж часто, но мне приходилось видеть онкологических больных. У мамы рак, вот что! Потому-то и отчим выглядит каким-то потухшим и сникшим, и по этой же причине он отказался говорить со мной на эту тему – «она может услышать…».
Я отвел глаза от Мамоны и большим усилием воли отогнал от себя все черные мысли на ее счет. Не ради своего спокойствия: ради маминого. В самом ли деле она ни о чем не догадывается, или только делает вид, что верит в свое скорое исцеление – неважно, другого выхода, кроме как принять предложенные мне правила игры, мне не остается…
– Нашел, – отчим появился в дверях с огромным фолиантом в руках. С трудом лавируя между стульями с тяжелой книгой, он сел на свое место и достал из нагрудного кармана фланелевой толстовки очки:
– Думаю, это именно то, что тебя интересует, мальчик. Во всяком случае, пример очень…. ммм… я бы сказал, живописный.
Мамона вскинула брови в немом вопросе, не понимая, о чем речь. Я подумал, не выпроводить ли ее из кухни под каким-нибудь предлогом: старой больной женщине не полагается слушать всякие ужасы.
Но, взглянув на мать, я понял, что она никуда не уйдет. Каким бы плохим ни было ее самочувствие, но сегодня к ней пришел сын, он сидит рядом, пьет чай, расспрашивает о ее здоровье. Это редкая минута даже для такой малосентиментальной женщины, как моя Мамона. Нет, она не уйдет.
– Чтобы не искать слишком долго и не задерживать тебя, я решил начать сразу с Трансильвании, которая всегда считалась родиной вампиров, маньяков и вообще всякого рода злодеев, – начал дядя Веня, водрузив на нос очки и медленно водя пальцем по сгибу страницы, на которой была открыта книга. – Граф Дракула – ты, конечно, помнишь такого? Это реальный персонаж, настоящий граф, мучитель, садист и убийца, а уж потом из него сделали киношного злодея. Но ты спрашивал о женщинах-маньяках. Такие тоже были в Трансильвании. Одна из них, пожалуй, самая знаменитая, родилась почти через сто лет после печально знаменитого Дракулы, в 1560 году…
* * *
– Ты беременна! Дрянная похотливая сучка! Беременна! И это накануне свадьбы! Да тебя убить за это мало, дрянь, дрянь, дрянь!
Звук пощечины, а за ней еще одной, отразился от каменных стен замка.
Анна Батори, жена знатного трансильванского вельможи Георга Батори, державшего всю округу в страхе если не перед собственной особой, то уж наверняка перед влиятельным кланом своих родственников, среди которых был даже один король, занесла руку, чтобы еще раз ударить дочь, и остановилась.
Жениха ждали со дня на день, и если живот, который вот-вот полезет этой потаскухе на нос, еще можно будет скрыть под юбками и корсетами, то разукрашенное синяками лицо останется на виду. И как объяснить дорогому зятю, за что сановитая мамаша почем зря лупит его будущую невесту? Граф Надашди слывет умным человеком, ему не составит труда догадаться, что девочка, которую бьют накануне свадьбы, может быть повинна только в одном: в нарушении девства. А уж распущенности в своей будущей невесте вельможный господин не потерпит.
В этому случае ему ничего не стоит отказаться от свадьбы, и что тогда делать с этой беременной сучкой, у которой из всего приданого – проклятый живот и пара штопаных юбок?
Не говоря уже о том, что на средства будущего зятя планировалось восстановить полуразрушенный замок, ведь «знатные вельможи» одно только название, а кто знает, что у этих вельмож тюфяки набиты простой соломой, как у последнего крестьянина, и куры несутся прямо в каминной зале? Старинный род – почти всегда разорившийся род, хорошо, что граф Надашди это понимает. Иначе разве прислал бы письмо с предложением руки и сердца, которое, конечно, было незамедлительно принято!
Всем была ясна обоюдная выгода этой сделки. Граф, чьему титулу без году неделя, получает старинный герб на знамена и молоденькую жену в придачу, а семейство Батори – деньги и хотя бы временную передышку от осаждающих замок кредиторов. Все так хорошо складывалось, а тут эта потаскуха возьми и спутайся… с кем же? Она не говорит, проклятая!
– Кто тебя обрюхатил, несчастная, кто?! Скажи сама, дознаюсь – хуже будет!
Но хрупкая черноволосая девочка, стоящая посреди залы в одной лишь рубашке из грубого домотканого сукна, схваченной у ворота грубым шнурком, только улыбалась, опустив очи долу. Улыбалась украдкой – за откровенную веселость в такой момент вспыльчивая мамаша могла, чего доброго, и убить, во всяком случае – прибить как следует, невзирая на все расчеты, но улыбалась от души. Она знала, что так или иначе все уладится (род Батори ни за что не допустит позора), уладится, может быть, и без ее участия, и теперь улыбалась не тому, что груз забот перекладывался на материнские плечи, нет; Эржбета Батори чувствовала особое удовольствие в том, чтобы вызывать в памяти сладчайшие картины, а крики и попреки, бушевавшие над ее головой, придавали этим картинам особенное очарование.
Ознакомительная версия.