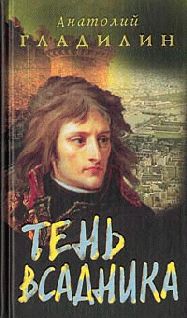– Ради королевского дома – не колеблясь ни секунды!
– Как вас прикажете понимать? – резко спросил принц после минутной паузы.
– Дело в том, – спокойно ответил маршал, – что я уже послал гонца с приказом казнить Петровского.
Взметнув, словно могучими крыльями, своим плащом, принц поднялся и навис над своей свитой наподобие огромного черного орла. Все знали: гнев его настолько велик, что действовать он будет безотлагательно. Не сказав фон Гроку ни слова, он громовым голосом подозвал к себе его заместителя, генерала фон Фоглена, коренастого человека с квадратной головой, который стоял поодаль, неподвижный, точно скала.
– У кого в вашей кавалерийской дивизии самая быстрая лошадь? Кто лучший наездник?
– Лошадь Арнольда фон Шахта может обогнать скаковую, Ваше Высочество, – выпалил генерал. – А сам он держится в седле как заправский жокей. Он из полка белых гусар.
– Прекрасно, – тем же громовым голосом откликнулся принц. – Пусть немедленно выезжает и остановит курьера, который везет этот безумный приказ. Я наделяю фон Шахта полномочиями, которые наш доблестный маршал, надо надеяться, оспаривать не станет. Перо и чернила!
Принц сел, скинул плащ и, когда ему принесли письменный прибор, крупным, размашистым почерком написал приказ, перечеркнувший все предыдущие. Смертную казнь принц распорядился отменить, а поляка Петровского выпустить на свободу.
В воцарившейся тишине, гремя шпагой и волоча за собой длинный плащ, принц рванулся к выходу, даже не взглянув на застывшего у стола старого Грока, который своей неподвижной фигурой и остекленевшим взглядом напоминал в этот момент доисторическое каменное изваяние.
Принц пребывал в такой ярости, что никто не осмелился напомнить ему про смотр войск. Тем временем Арнольд фон Шахт, совсем еще молодой офицер с длинными вьющимися волосами, на белом гусарском мундире которого красовалась уже не одна медаль, получив из рук принца сложенную бумагу, щелкнул каблуками, вышел, чеканя шаг, из палатки, вскочил на коня и помчался, словно серебряная стрела или падающая звезда, по высокой узкой дороге.
А старый маршал между тем не торопясь вернулся к себе в палатку, не торопясь снял остроконечную каску и очки и положил их, как и раньше, перед собой на стол. Затем он подозвал стоявшего у входа денщика и приказал ему немедленно привести сержанта Шварца из гусарского полка.
Не прошло и минуты, как перед маршалом вырос сухопарый, жилистый мужчина с большим шрамом на подбородке. Для немца он был, пожалуй, чересчур смуглым, хотя, быть может, он просто потемнел с годами от дыма, лишений и плохой погоды. Он отдал честь и, выпятив грудь, вытянулся перед маршалом. Фон Грек медленно поднял на него глаза. И при том, какая глубокая пропасть разделяла маршала Его Высочества, которому подчинялись генералы, и жалкого, побитого жизнью сержанта, эти два человека, единственные в этой истории, поняли друг друга без слов.
– Сержант, – отрывисто сказал маршал, – я видел вас дважды. Первый раз, если мне не изменяет память, когда вы заняли первое место в армии по стрельбе из карабина.
Сержант молча отдал честь.
– А второй раз, – продолжал фон Грок, – на допросе, после того, как вы застрелили эту мерзкую старуху, которая наотрез отказывалась давать нам сведения о засаде.
Тогда эта история получила в некоторых кругах громкую огласку. По счастью, многие влиятельные люди были на вашей стороне. В том числе и я.
Сержант во второй раз отдал честь. Говорил фон Грок невыразительно, но на удивление чистосердечно:
– Дело, от которого зависит безопасность как Его Высочества принца, так и всего отечества, представили Его Высочеству в ложном свете, и Его Высочество опрометчиво распорядился отпустить поляка Петровского, которого должны были казнить сегодня ночью. Повторяю, сегодня ночью. Приказываю вам немедленно ехать за фон Шахтом, который везет приказ о помиловании, и остановить его.
– Его вряд ли удастся догнать, ваше превосходительство, – возразил сержант Шварц. – Фон Шахт – превосходный наездник, и у него самая быстрая лошадь в полку.
– Вы должны не догнать, а остановить его, – возразил Грок. – Остановить человека можно по-разному, – растягивая слова, проговорил маршал. – Можно голосом, а можно и выстрелом. Выстрел из карабина наверняка привлечет его внимание, – уточнил Грок еще более невыразительным голосом.
И в третий раз сержант молча отдал честь. Его суровое лицо по-прежнему оставалось совершенно непроницаемым.
– Мир меняется не от наших слов, – сказал Грок. – Переделать мир можно не упреками и похвалами, а только делом. Сделанного, говорят, не воротишь. В настоящий момент без убийства нам никак не обойтись. – Маршал метнул на сержанта колючий взгляд своих стальных глаз и добавил: – Я имею в виду Петровского, разумеется.
И тут впервые непроницаемое лицо сержанта Шварца расплылось в мрачной улыбке. Откинув брезентовый козырек палатки, он, как и двое курьеров до него, вышел наружу, вскочил в седло и растворился во мраке. Последний из трех всадников был еще менее склонен предаваться пустым фантазиям, чем первые двое. Но коль скоро и он до некоторой степени был человеком, мертвая равнина, по которой он скакал темной ночью, да еще с таким поручением, действовала на него столь же угнетающе. Он словно бы ехал по высокому мосту, под которым разверзлась бездонная и безбрежная пучина, в миллионы раз более страшная, чем море. Здесь ведь нельзя плыть ни самому, ни в лодке – болото неминуемо затянет вниз. Сержант ощущал присутствие какой-то древней, как мир, зыбкой субстанции, лишенной всякой формы, не являющейся ни землей, ни водой. В этот момент, мнилось ему, все в природе так же зыбко и непрочно, как эта трясина.
Он был атеистом, как тысячи таких же, как и он, скучных, деловых северных немцев, однако он не принадлежал к тем счастливым язычникам, что воспринимают прогресс человечества как нечто само собой разумеющееся.
Мир для него был не зеленым полем, где все распускается, растет, плодоносит, а пропастью, куда со временем, словно в бездонную яму, низвергнется все живое, и эта мысль помогала ему выполнять странные обязанности, возложенные на него в этом чудовищном мире. Серо-зеленые пятна растительности, смотревшие сверху развернутой географической картой, представлялись ему скорее историей болезни, чем историей роста, а водоемы, казалось ему, полны не пресной водой, а ядом. Он помнил, какую суету обычно подымают все эти гуманисты по поводу отравленных источников.
Впрочем, размышления сержанта, как и всякого, к размышлениям не склонного, вызваны были тем, что этот сугубо практичный человек отчего-то нервничал, испытывал какую-то смутную тревогу. Уходившая вдаль, совершенно прямая дорога казалась ему не только жуткой, но и бесконечной. Странное дело: так долго ехать и даже издали не видеть преследуемого, У фон Шахта, как видно, и впрямь была превосходная лошадь, ведь выехал он немногим раньше. Надежды на то, чтобы догнать фон Шахта, о чем Шварц предупреждал маршала, было мало, однако рассмотреть его вдали он должен был, судя по всему, очень скоро.
И вот когда от унылого, пустынного пейзажа повеяло полной безысходностью, сержант наконец увидел того, за кем гнался.
Далеко впереди возникла белая точка, которая постепенно выросла в белую фигурку всадника, стремглав летевшего по равнине. Выросла потому, что прибавил ходу и Шварц, который мчался теперь с такой же бешеной скоростью. Вскоре фигурка увеличилась настолько, что на белом мундире можно было разглядеть оранжевую перевязь, какую носят гусары. Что ж, самому меткому в армии стрелку приходилось поражать цели и поменьше.
Он сдернул карабин, и молчаливые, раскинувшиеся на многие мили вокруг болота содрогнулись от оглушительного грохота, в котором потонул крик поднявшихся в небо птиц.
Но сержант Шварц наблюдал не за птицами, а за всадником: даже на таком большом расстоянии видно было, как прямая белая фигурка внезапно скрючилась и осела, словно ее переломили пополам. Теперь она мешком висела на седле, и Шварц, человек зоркий и многоопытный, не сомневался: пуля попала в цель; больше того, он мог поручиться, что пуля попала всаднику прямо в сердце. Вторым выстрелом он уложил коня, а еще через мгновение всадник вместе С лошадью накренились, рухнули вниз, и белое пятно растворилось в темной трясине.
Практичный сержант решил, что дело сделано. Вообще трезвомыслящие люди его типа, как правило, слишком много думают над тем, как сделать, а потому зачастую не задумываются, что делают. Ведь он предал самое дорогое, что есть в армии, – солдатское братство; он убил отважного офицера при исполнении боевого задания; он обманул своего монарха, пренебрег его приказом и хладнокровно убил человека, против которого ничего не имел. Зато он выполнил приказ старшего по чину и способствовал казни поляка.