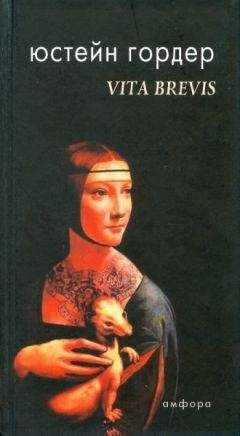Ознакомительная версия.
– Извините.
– Прекратите извиняться. Вашей вины в том нет, но… он пишет про ангелов… называет меня ангелом.
– Это плохо?
– Неосмотрительно.
Мы брели по переулку, а потом свернули на боковую улочку, кривую и темную, запертую между рядами домов. Она была грязна, и меж окнами протянулись веревки, на которых сохло белье. Пахло здесь кошками и мочой, но Эмилия будто не чувствовала запаха. Она смотрела на это белье, на дома, на саму улочку с детским восторгом, и я не мог понять, что же она видит.
– Не уверена, что у меня получится объяснить… он любит не меня, но мой некий образ, которому мне полагается соответствовать. Но, видите ли, Андрей, я живой человек. А живые люди имеют обыкновение совершать поступки, которые несколько, как бы выразиться, из образа выходят… и когда он поймет, что я вовсе не такова, как ему казалось, он разозлится. Надеюсь, что только разозлится.
Я задумался.
Почему-то ее слова долго не выходили у меня из головы. А ведь и вправду Мишенька создал себе ангела, но Эмилия – не образ.
Человек.
Как бы там ни было, но Мишенькиного возвращения ждали мы с опаской. А он, очарованный Италией, не спешил возвращаться. Писал Эмилии, подробно рассказывая обо всем, чему стал свидетелем. Мне – кратко, скорее из чувства долга.
Я слышал о его работах.
Их обсуждали в салоне Эмилии с пылом, который казался мне странным, ведь икон этих никто не видел. Однако разве подобная мелочь могла уберечь Мишеньку от критики? Говорили о его своеволии, об экспериментах глупых, когда он пытался писать не на холстах, но на металлических досках… о том, что ведет он себя недостойно… и о многом ином, к делу отношения не имеющем. Пожалуй, из тех бесед я узнавал о нем куда больше, чем из его собственных писем.
Там же узнал я и о Мишенькином возвращении, а потому визит его не стал для меня неожиданностью. Он явился третьего дня, ночью, и был до того зол, что гнев исказил приятное обычно его лицо до неузнаваемости.
– Ты! – Он хлопнул дверью, что было вовсе недопустимо, и едва не набросился на меня с кулаками. Пожалуй, если бы он не понимал, что я сильней, то и набросился бы. – Как ты мог поступить так?! Ты знал, что я люблю ее…
– Погоди, – я говорил спокойно, как с человеком больным, не понимающим всей тяжести своего недуга. – В чем ты обвиняешь меня?
– Эмилия… ты и она… – он вдруг рухнул на колени и зарыдал. – Ты и…
– Глупости. – Я присел рядом и обнял. – Я заглядываю к ней… в ее салон. Иногда. Но сам посуди, что может быть между нами? Она замужняя женщина…
И как ни странно, аргумент сей, самого Мишеньку нисколько не смущавший, возымел действие.
– Да… конечно… прости. – Он вытер слезы. – Мне надо было подумать… но я не видел ее так давно! Если бы ты знал, до чего мучительно было не видеть ее… не знать, что с ней. Я писал ей. Каждый день писал. А она отвечала редко. Сухо.
Он вскочил.
– Я знаю. Это он запрещал ей открываться в письмах… конечно, он их читал… жесткий, низкий человек… а она – ангел.
– Она человек.
– Нет, – Мишенька тряхнул головой. – Ты просто не видишь. Ты слеп, как и все прочие… думаешь, что я обезумел? И верно… обезумел… легко быть безумцем, когда снедает страсть. Но я погибну без нее! Знаешь что? Я завтра же пойду к нему… потребую отпустить… он не посмеет ее удерживать. Он…
– Если ты говоришь об Адриане Викторовиче, то уверяю тебя, что Эмилию никто не удерживает силой. Он никогда бы не стал мучить женщину, которую любит и уважает. И она, Мишенька, пойми ты наконец, платит ему той же любовью и уважением.
– Нет.
Он не пожелал меня слышать, должно быть, потому, что признай он мою правду, то и вынужден был бы одолеть болезненную свою одержимость.
– Она не может его любить! – выкрикнул Мишенька. – Он ее не достоин…
Самое ужасное, что он, невзирая на уговоры – не только мои, но и многих своих приятелей, которые, несмотря на легкость нрава, все же оказались людьми разумными, – не отступился от безумной идеи вызволить Эмилию из тягостного брака. Мишенька не желал понимать, что эта женщина уже была счастлива.
Как же… разве возможно ее счастье без него?
И тогда я еще подумал, что эта его страсть на редкость эгоистична. И быть может, права Эмилия, говоря, что Мишенька как есть – дитя, которое привыкло, что всякий его каприз тотчас удовлетворяется.
Как бы там ни было, но Мишенька и вправду отправился к Адриану Викторовичу и, глядя в глаза ему, заявил, что имеет намерение добиться развода с Эмилией, а после сочетаться с нею законным браком. Не знаю, что сделал бы я, случись судьбе поставить меня на место Прахова. Сумел бы сохранить спокойствие или же позволил бы ярости застить разум, лишив меня всякого благоразумия? К чести Адриана Викторовича, он выслушал Мишеньку со всем вниманием, а после указал на дверь, заявив, что боле не нуждается в его услугах. А такоже не желает видеть его в собственном доме.
И это, пожалуй, было наказанием худшим, нежели можно себе представить, ведь Мишенька лишился всякой надежды лицезреть ту, ради которой готов был на подвиг. Увы, сама Эмилия решение супруга поддержала. И когда Мишенька, окрыленный надеждою – я не могу представить, что он и вправду надеялся на согласие, – предстал пред ней с предложением немедля бросить постылого супруга и детей и бежать с ним в Италию, Эмилия решительно отказала.
Он умолял.
Он говорил много, пылко, полагаю, о том, какая чудесная жизнь их ждет. Он не допускал и мысли, что Эмилия не желает разделять его мечты.
Муж? Он не достоин ее.
Дети? Какая глупость… если ей так хочется детей, то родит еще. Мишенька согласен их терпеть…
– Бедный мальчик, – сказала ему Эмилия. – Надеюсь, ты поправишься и будешь еще счастлив.
Что ж, как и следовало ожидать, прямой этот разговор, крайне неприятный для обеих сторон, многое прояснил. И у Мишеньки не осталось иллюзий.
Этого он не смог пережить.
При всех моих симпатиях к Мишеньке, я вынужден был признать, что на деле он оказался человеком слабым, не способным пережить неудачу. Было ли причиной того обстоятельство, что с раннего детства его опекали, о нем заботились, спеша оградить от всяких забот, или же все-таки безумная страсть, не оставившая ему сил на спасение…
Не знаю.
Ему бы уехать, в Италию, в Петербург, к отцу в Харьков – тот, обеспокоенный моим посланием, признаюсь, отписался я без Мишенькиного на то дозволения, – прислал ему денег. Только возвращаться Мишенька не желал.
Он предавался жалости к себе с упоением и размахом.
Кутил, пусть и не имел для того достаточно средств, однако полагал, будто бы боль, им испытываемая, есть достаточное оправдание для полной потери человеческого обличья.
Поначалу я не пытался его остановить, полагая, что горе Мишенькино таково, что требуется ему время, дабы успокоить душевную боль. И то верно, что многие, кому случалось испытать неудачу в любви, принимались заливать горе водкой. Я ждал, когда же Мишенька осознает, что подобная жизнь не способна избавить его от боли. Однако же он не спешил осознавать. Напротив, каждый день он появлялся в кафешантане «Шато-де-флер», уже будучи нетрезв, и продолжал пить, а когда находился кто-то сердобольный, пытавшийся образумить, Мишенька впадал в ярость. Он начинал кричать о разбитом сердце, о душе… о том, что нет людей, которые испытали бы хотя бы малую толику мук, которые он сам испытывает ежечасно.
Он пристрастился к вину и напиткам, куда менее благородным, но более дешевым. Он принимался сорить деньгами, нанимая цыган из ресторации или гулящих девок. Их то и дело брался писать, да только никогда не доводил работу до конца.
С работой у Мишеньки было тяжко.
Слухи о его неподобающем поведении разнеслись не только по Киеву, но и по иным городам, обросли некрасивыми подробностями, а порой и вовсе были лживы. Многие заговорили о том, что Мишенька обладает на редкость дурным норовом, что он необязателен, а то и вовсе берет заказы, не думая их исполнять. И удивительно, что именно Прахов, у которого не было ни одной причины симпатизировать Мишеньке – от слухов страдала и собственная его семья, – предложил ему участие в новом прожекте. И Мишенька согласился расписывать Владимирский собор, верно, надеясь, что дозволено будет ему вернуться и в дом Эмилии, но, увы, созданное им полотно было отвергнуто Праховым[3]. Печально было, что работа сия не была плоха. Напротив, она была слишком хороша и резко выделялась бы средь прочих.
Ознакомительная версия.