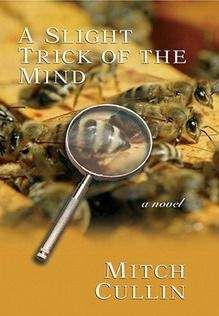— Извините меня, я заметил случайно, это у вас «Осенние вечерни» Меньшова?
— Да, — сухо ответила она.
— Отлично написано, вы согласны? — продолжал он с восторгом, как будто пряча неловкость, которую ощущал. — Не без недостатков, но ведь в переводе ошибки неизбежны и, как мне кажется, простительны.
— Я не видела ни одной. Вообще-то я только начала…
— Все равно наверняка видели, — сказал он. — Может быть, просто не обратили внимания, их легко пропустить.
Она тревожно посмотрела на него, когда он сел рядом. У нее были очень густые, почти кустистые брови, и они придавали ее голубым глазам жесткость. Она казалась недовольной: было ли тут дело в его присутствии или в обычной осмотрительной сдержанности осторожной, замкнутой женщины?
— Вы позволите?.. — спросил он, кивая на книгу в ее руках. Промелькнул миг молчания, она протянула ему ее, и он, заложив страницу указательным пальцем, перелистал книгу назад и сказал: — Вот, например, смотрите, в самом начале гимназисты без рубашек, потому что у Меньшова сказано: «Человек внушительной наружности выстроил голых по пояс мальчиков в ряд, и Владимир, чувствуя себя обнаженным, как и Андрей с Сергеем, вытянул длинные руки по швам». А потом через страницу он пишет: «Услышав, что перед ними генерал, Владимир незаметно застегнул за спиной манжеты и расправил узкие плечи». У Меньшова можно найти много подобного — по крайней мере, в переводах его книг.
Но, дописывая рассказ о ней, Холмс не вспомнил в точности разговора, который споспешествовал их знакомству, отметив лишь, что спросил о книге и был поражен ее задержавшимся на нем взглядом (странное, неправильное обаяние ее лица — приподнятая бровь, натянутая полуулыбка, которые он уже видел на фотографии, — выдавало натуру апатического типа). Нечто не от мира сего было в ее голубых глазах, бледной коже, в том, как она держалась, — в неспешных, плавающих движениях, в том, как она, наподобие привидения, почти парила над дорожками сада. Некая бесцельность, невесомость, непознаваемость — какая-то безропотная покорность судьбе.
Отложив ручку, Холмс возвратился в болезненно ясную действительность своего кабинета. С самого рассвета он пренебрегал телесными нуждами, но теперь он покинет мансарду (какой бы ужас ни вызывала в нем эта мысль) и опорожнит мочевой пузырь, и выпьет воды, и, перед тем как поесть, обследует при свете дня пасеку. Он бережно сгреб страницы, разобрал их, сложил в стопку. Потягиваясь, зевнул. Его одежда тяжко пахла въевшимся в нее сигарным дымом, и оттого что он всю ночь работал, ссутулившись над столом, кружилась голова. Взявшись за трости, он оторвался от стула и постепенно встал. Поворотившись, он начал медленно продвигаться к двери, не слыша щелканья и тихого похрустывания приведенных в движение суставов.
Образы Роджера и миссис Келлер перемешались в его сознании, Холмс покинул свой задымленный рабочий угол и машинально поискал поднос с ужином, который обычно оставлял ему в коридоре мальчик, хотя, еще не отворив двери, знал, что его там не будет. Он зашагал по коридору — тем горестным путем, который вчера привел его в кабинет. Но вчерашний ступор прошел; кошмарное черное облако, лишившее его способности чувствовать и обратившее приятный день в самую черную из ночей, развеялось, и Холмс был готов выполнить свою задачу: спуститься вниз, где никого, кроме него, нет, облачиться в специальную одежду, неторопливо пройти через сад — а оттуда он войдет на пасеку, как призрак под своей сеткой, в белом наряде.
Но Холмс долго стоял у лестницы и по привычке ждал, чтобы Роджер помог ему сойти. Его усталые глаза закрылись, и мальчик взбежал к нему по лестнице. Затем мальчик появлялся и в других местах, там, где прежде видел его Холмс: погружал свое худенькое тело в купальню, и его грудь покрывалась гусиной кожей от холодной воды; бежал по высокой траве, держа перед собою сачок, в хлопковой рубашке навыпуск с закатанными рукавами; вешал в пчельнике кормушку с пыльцой, выбрав для насекомых, которых так полюбил, место посолнечнее. Интересно, что все эти летучие видения, связанные с мальчиком, относились к весне или лету. Но Холмс ощутил зимнюю стужу, вдруг вообразив мальчика в могиле, схороненным под холодной землей.
Тогда он услышал слова миссис Монро. «Он хороший мальчик, — сказала она, нанимаясь к нему в экономки. — Все больше сам по себе, робковат, тихий очень, в отца. Он вас не обременит, обещаю».
Но теперь Холмс знал, что мальчик обременил его, и обременил страшно. Все равно, сказал он себе, будь то Роджер или кто другой — всякой жизни положен предел. И у каждого мертвеца, рядом с которым он опускался на колени, была жизнь. Он направил взгляд на лестницу и, начиная спуск, задался вопросами, над которыми тщетно бился с юности: «В чем смысл? Чему служит этот круговорот страдания? Должна быть какая-то цель, иначе — вселенной правит случай. Но что это за цель?»
На втором этаже, где он собирался воспользоваться уборной и освежить лицо и шею холодной водой, Холмс на мгновение услышал слабое гудение и подумал — насекомое или птица подает голос, и подумал еще о том, как, наверное, надежно оберегает их растительный мир. Ведь и насекомые, и растения пребывают вне человеческих горестей.
Может быть, подумал он, поэтому они, в отличие от людей, способны возвращаться вновь и вновь. Только спустившись на первый этаж, он понял, что гудение раздается внутри дома: тихое пение, прерывистое, человеческое, оживляло кухню — голос явно женский или детский, но точно не миссис Монро и, ясное дело, не Роджера.
Сделав полдюжины проворных шагов, Холмс оказался у кухонной двери и заметил идущий от кастрюли на плите пар. Войдя, он увидел ее перед разделочной доской — стоя спиной к нему, она резала картошку и, забывшись, напевала. Ее длинные, вьющиеся волосы тут же лишили его покоя: волнистые черные волосы, бело-розовая кожа рук, миниатюрная фигурка — все это он мгновенно отождествил с несчастной миссис Келлер. Он совершенно потерял дар речи и стоял, не в силах обратиться к этому потустороннему явлению, — наконец разлепил губы и с отчаянием спросил:
— Зачем вы пришли сюда?
Пение прекратилось, и резко повернувшаяся к нему головка обнаружила незамысловатое девичье лицо — лицо ребенка не старше восемнадцати лет — с большими кроткими глазами и добрым, возможно глуповатым, выражением.
— Сэр…
Холмс устремился вперед и навис над нею.
— Кто ты? Что ты тут делаешь?
— Это я, сэр, — серьезно ответила она. — Я Эм, дочь Тома Андерсона, я думала, вы знаете.
Стало тихо. Девушка опустила голову, уклоняясь от его взгляда.
— Дочь констебля Андерсона? — негромко спросил Холмс.
— Да, сэр. Я подумала, что завтракать вы не будете, я готовлю вам ланч.
— Но что ты здесь делаешь? Где миссис Монро?
— Спит, бедненькая. — Она произнесла это без скорби, радуясь тому, что ей было что сообщить. Она не поднимала головы и обращалась к тростям у своих ног; говоря, она слегка присвистывала, как будто выталкивала из себя слова. — Доктор Бейкер сидел с ней всю ночь, но сейчас она спит. Не знаю, что он ей дал.
— Она в гостевом доме?
— Да, сэр.
— Понятно. И Андерсон послал тебя сюда?
Вид у нее был растерянный.
— Да, сэр, — сказала она. — Я думала, вы знаете, я думала, отец сказал вам, что я приду.
Тут Холмс вспомнил, как прошлым вечером Андерсон постучался в дверь его кабинета, — констебль задавал вопросы, говорил банальности, мягко клал ему руку на плечо, но все было как в тумане.
— Конечно, — сказал он, посмотрев в окно над раковиной; на стол светило солнце. Он тяжело вздохнул и с некоторым стеснением взглянул на девушку. — Прости, нелегкие выдались часы.
— Не извиняйтесь, сэр, правда. — Она подняла голову. — Поесть — вот что вам нужно.
— Стакан воды, наверное.
Вялый после бессонной ночи, Холмс поскреб в бороде, зевнул, глядя, как она проворно наливает ему воды, и нахмурился, когда, наполнив стакан, она вытерла руки о юбку (она передала ему воду с польщенной, пожалуй, благодарной улыбкой).
— Что-нибудь еще?
— Нет, — ответил он, зацепляя трость за запястье и освобождая руку, чтобы взять стакан.
— Воду кипячу вам для ланча, — сказала она, отходя обратно к доске. — Но если передумаете насчет завтрака, скажите.
Девушка взяла со стола нож. Неуклюже подавшись вперед, она вонзила его в картофелину и, нарезая, откашлялась. Когда Холмс опустошил стакан и поставил его в раковину, она снова начала напевать. Он оставил ее, ушел из кухни, не сказав больше ни слова, — прошел по коридору, вышел в дверь, слушая это дрожащее, немузыкальное гудение, сопровождавшее его еще какое-то время во дворе, по пути к садовому сараю, — даже не достигая уже его слуха.
Но когда он приблизился к сараю, девичий голос отлетел прочь, как бабочка, сменившись в его мыслях красотой сада: цветы метили в ясное небо, пахло люпинами, в соснах неподалеку щебетали птицы, и тут и там реяли пчелы, садились на лепестки, скрывались в цветочных чашечках.