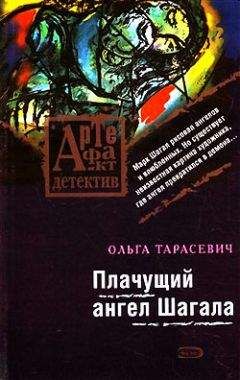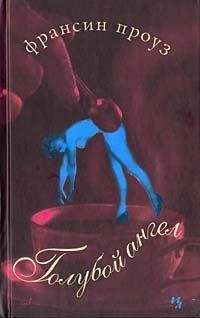Ознакомительная версия.
Меклер ничуть не удивился, осознав: он у дверей мастерской Сегала. Но когда вошел внутрь – едва сдержал крик ужаса. Перед мольбертом с незаконченной работой Мойши на коленях стояло привидение.
И оно бормотало, бормотало. До Авигдора донеслось отчетливое:
– Матка боска, от пенкна паненка!
«Польский? – удивленно подумал Меклер. – Ничего не понимаю…»
Он попятился назад к двери. Но тонко пискнула половица, и существо, восхищенно молящееся у мольберта, на котором парила Белла, быстро обернулось. В полумраке забелело мужское лицо. Широкие брови, тяжелый взгляд из-под нависающих бровей, тонкие-претонкие губы.
Знакомые черты, испуганно думал Меклер, очень-очень знакомые. Он совершенно точно уже когда-то обращал на них внимание и даже решил, что эта голова напоминает четкий правильный прямоугольник. Не иначе как это поклонник творчества Сегала. Возможно, где-то мельком уже замеченный.
– От таленавитый пан директор! – сказал мужчина и протянул ладонь: – Казимеж.
Желание треснуть себя по лбу возникло сильное, но Авигдор сдержался и, представившись, пожал руку Малевича. Конечно же, это он! Как было не узнать эту вечную его рубаху навыпуск, неизменно подпоясанную грубой веревкой, эту крестьянскую, совсем простую шапку-пирожок, с которой художник не расстается в любую погоду.
Авигдор встречал Малевича в Москве и в Санкт-Петербурге. Тогда он тоже производил очень странное впечатление. Дернул его, совсем незнакомого человека, за рукав и принялся лаять, словно собака. Натурально! Как собака! А потом спросил:
– Вам понравились мои стихи?…
Стихи… Не стихи – набор звуков, слогов, ну бессмыслица же!
А теперь вот – на коленях у мольберта. Странный человек. Непредсказуемый.
– Какой талант! – прошептал Казимир Малевич и поежился от холода. Мастерская к ночи выстывала, как склеп. – Он будет очень известным, ваш пан директор. Конечно, когда есть возможность, отчего ж не выучиться…
Его как прорвало во время той случайной встречи. Авигдор слушал сбивчивый рассказ Малевича и поражался: до чего же похожа судьба Казимира на путь Мойши. Впрочем, похожа, да не похожа. Оба из нищих семей, оба понимали: рисование – не только искусство, но и наука, а науку следует терпеливо постигать. Но если Мойша, сцепив зубы, искал себя, искал возможность посещать разные школы, видеть работы самых разных художников, то Казимир… Он лишь мечтал об этом. И изучал технику живописи не в Париже, а в Москве, во время редких осмотров частных коллекций. А частная коллекция, какой бы богатой она ни была, – это все равно не Лувр.
– «Руанский собор, восход солнца»! Штрихи, мазки, пятна, капли света. Я стоял перед этой картиной Моне и не мог на нее наглядеться, – говорил Казимир Малевич, и глаза его горели лихорадочным блеском. – И я стал писать точно так же, в такой же манере. Моя «Церковь», «Белье на заборе» – это дыхание Моне, я прочувствовал его всего. Но потом понял – каким бы талантливым ни был художник, если он пишет то, что видит, – он бездарность. Все состоит измельчайших частиц. Художник пишет ветку дерева, а листья-то опадают. Так исчезают храмы. Высыхают реки.
Авигдор тихо заметил:
– Но все это остается на картинах!
– Вам нужен костюм Рамзеса III? Нет! В шкаф его! В театр! Новое искусство должно быть вечным!
«Подражатель, – понял Меклер, уже не прислушиваясь к речам возбужденно размахивающего руками Малевича. – Подражатель, в котором есть силы делать что-то свое. Силы есть, желание есть. А вот способностей нет. Как у меня. Не дано… Или знаний нет, без них тоже никуда. И вот он придумал свою теорию. Но только чего она стоит, если ее автор от восхищения опускается на колени перед гением Сегала? Работы Мойши – даже не костюм Рамзеса. Это то, чего нет и никогда не было, это фантазии, это выдумка. Но она трогает. Мойша пишет своей душой. И душа любого, кто взглянет на полотно, не останется безучастной».
– Вы хотите его убить, но у вас не хватит решимости. Вы все равно убьете, но потом… Зависть вас строго и мучительно накажет. Случится именно то, чего вы больше всего боитесь!
Глаза Малевича были полуприкрыты. В полумраке Авигдор явственно различал белые полоски в прорезях век. Голос Казимира звучал ровно, безо всякого выражения, и это пугало даже больше, чем содержание речи.
Но буквально через минуту интонация изменилась. Откашлявшись, художник с любопытством поинтересовался:
– Я говорил сейчас что-то, да?
Меклер обессиленно кивнул.
– Верьте мне. Когда такое начинается, я ничего не помню. Но, говорят, многое сбывается.
«Не приведи господь, – с ужасом подумал Авигдор и вздрогнул. – Да! Да-да-да. ЗАВИСТЬ. Вот оно, зависть. Даже мысленно я почти не называл этого слова. Это то, что в моей крови, плоти, мыслях. И он – Казимир – он точно такой же. Поэтому он понял меня. И поэтому мне так нравится говорить с ним…»
После той ночной беседы Авигдор и Казимир очень сблизились. Не в силах писать настоящих, хороших картин, Малевич всю неуемную энергию отдавал теории, и ученики ходили за ним толпами, открыв рот.
Можно ли осуждать детей за то, что они интересуются человеком, требующим считать всех профессоров-академиков инвалидами? А его идея созвать экономический совет пятого измерения для ликвидации всех старых искусств! Малевич требует освободить время из рук государства и обратить его в пользу изобретателей. Признать труд пережитком старого мира насилия. Считать солнце костром освещения…
Да, лучше слушать такие теории, чем рисовать натюрморты. Ученики Сегала переходили к Малевичу, а тот блаженствовал, и лишь Авигдор понимал почему.
Он не мог увлечь картинами так, как увлекал Сегал. Но Малевич все равно покорял души, пусть не при помощи холста, но покорял. А хотел бы живописью, конечно. И не мог. В этой западне уже давно мучительно долго бился Авигдор Меклер…
…В темноте работы Казимира Малевича были едва видны.
Чернота ночи, темная палитра. Энергия бессилия и безысходности. Вот что увидел Авигдор в мастерской основателя супрематизма.
Бросив последний взгляд на холст с красным овалом, вспоротым черным крестом, Меклер осторожно закрыл за собой дверь.
Он шел в свою комнату, поглаживал через карман пиджака бумагу и твердо знал, что уснет, уснет быстро и крепко.
Мойше уже стали меньше платить. Все ученики сбежали к Малевичу. По сути, о директора народного художественного училища вытирают ноги. И вот если Сегал сообразит покончить жизнь самоубийством… Может, тогда Авигдор заживет наконец спокойно, без ежесекундной сильной боли, разъедающей душу, как кислота?
На красивом лице Меклера появилась улыбка. Замечтавшись, он прошел мимо собственной комнаты и чуть не вошел в жилье своего заклятого друга…
* * *
Желание срочно уехать из Витебска появилось внезапно. И причин его возникновения Лика Вронская не понимала совершенно.
Да, с одной стороны, события последнего дня вряд ли можно назвать приятными. Каким бы человеком ни был Михаил Дорохов, он мертв. Убийца где-то рядом, заметает следы. Есть от чего заволноваться, но… Именно заволноваться. А откуда все же такая паника? Липкий безотчетный страх? Стремление оказаться за рулем верного «фордика» и помчаться в Москву, прямо теперь, посреди ночи?..
Лика Вронская сидела в холле гостиницы, обессиленная, напуганная. Чего бояться? Николай Жигалевич подвез ее прямо до дверей, проводил к стойке, пошутил насчет наличия ключа к номеру и отсутствия ключика к сердцу. И лишь тогда попрощался.
Ему можно позвонить. Прямо сейчас. Но как объяснить причины этого сковывающего движения ужаса?
«Я скоро умру, – вдруг подумала Лика, машинально наблюдая за тем, как полная крашеная блондинка оформляет регистрационную карточку. – Это совершенно точно. Я скоро умру, и все закончится. И больше ничего не будет: ни книжек, ни редакции, ни любви. Все закончится…»
Она никак не могла отделаться от ощущения, что за ней наблюдают. Но в холле все были заняты своими делами. Менеджер вручил ключи от номера новой гостье, двое мужчин в строгих костюмах негромко переговаривались, официант принес им по бокалу вина. Лика уставилась в огромные черные окна, пытаясь рассмотреть сквозь ночь пронзительно голубые глаза Кирилла Богдановича. Но в сумерках угадывались лишь съежившиеся фигуры случайных прохожих.
Звонок сотового телефона заставил Лику на секунду вздрогнуть. Но, посмотрев на номер абонента, она сразу же улыбнулась.
Маня! Подружка, писательница. Она пишет самые лучшие иронические детективы. И точно так же лихо видоизменила свое роскошное претенциозное имя. Марианна стала Маней. Анжелика превратилась в Лику…
– Лика, ты куда исчезла? Почему до тебя не дозвониться? В Париж вернулась? – затараторила подруга. – А я постриглась! У меня симпатичная такая лысинка!
Лика мгновенно почувствовала себя лучше. Светлая Манина энергетика домчалась до Витебска и если не смыла безотчетный страх полностью, то сделала его менее мучительным.
Ознакомительная версия.