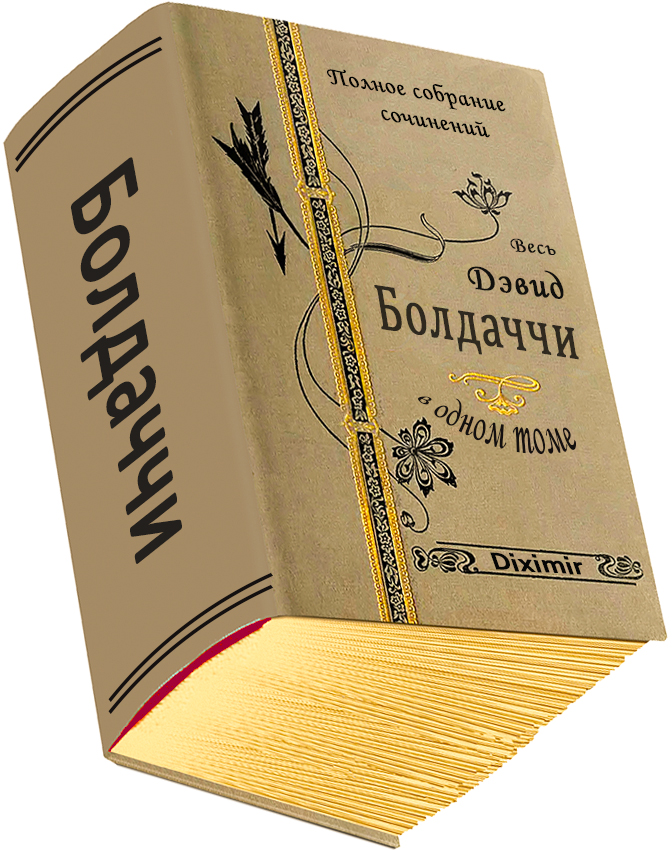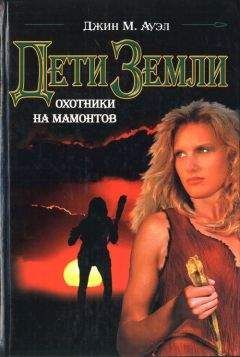кто его убил, узнал код страны и просто нажал на повтор. Абонент взял трубку, предполагая, что это перезванивает Карсон.
Такер откинул голову на спинку кресла.
Означает ли это то, что он думает? Имеет ли это значение? Рассчитывать на удачу не приходилось. Возможно, их сверхсекретную операцию только что раскрыли.
Необходимо уведомить президента.
Умом он понимал, что должен это сделать, но рука отказывалась взять трубку телефона.
Он заново прокрутил все у себя в голове.
Этот телефонный номер нельзя отследить. Возможно, все еще в порядке. Но лишь возможно.
Наверное, пока не надо связываться с президентом. Лучше сперва убедиться, что операция не скомпрометирована. А тогда – срочно отправлять команду, чтобы реализовать план.
Второго шанса не будет.
Он сделал еще несколько звонков, запуская процесс.
В данный момент его не волновало, выживут Роби с Рил или нет. Его не одолевало ощущение несправедливости и желание их наказать.
Он хотел сам это пережить. Риск был гигантским. Слишком большим, понимал он сейчас, но было слишком поздно об этом думать.
Он поспешил на совещание и высидел какую-то презентацию, на которую ему было плевать и которую он не слушал. В подобных делах пролетел весь день; он лишь раз сделал перерыв на тарелку супа – суп пролился ему в желудок, словно кислота.
Его отвезли домой, проводили к дверям. Приказав сопровождающим оставаться снаружи, он прошел мимо жены, которая выглянула из гостиной поздороваться с ним, прямиком в свой домашний офис. Включил режим обработки секретной информации и проверил свою электронную почту и голосовые сообщения.
Пока ничего. Это может быть хорошо и может быть плохо.
Он позвонил Маркс в Пекло и сказал ускорить процесс. Это будут Роби и Рил, сказал он ей. И отправляться им придется, возможно, в ближайшее время. Он не стал ждать, пока она начнет задавать вопросы, и просто повесил трубку.
Налил себе кое-что покрепче, чем вода, выпил, добавил еще. Нервы были напряжены настолько, что алкоголь не оказывал никакого эффекта. С тем же успехом он мог пить газировку.
Он обмяк в своем кресле и прикрыл глаза.
Открыл, когда в компьютере сработал сигнал.
Это был особый сигнал, который он сам установил. Требующий немедленного внимания.
С пересохшим ртом и колотящимся сердцем Такер открыл имейл, отправленный по шифрованному каналу максимальной степени безопасности. Сообщение было коротким, но каждое слово в нем, как пуля, вонзалось ему в череп.
Единственное, что ему оставалось, – в неверии таращиться в экран, потому что все надежды, какие у него были до этой минуты, теперь растаяли.
Растаяли навсегда. Это превосходило даже самый худший сценарий, какой он представил себе, когда его проинформировали об убийстве Карсона. Ллойд Карсон был посредником, связующим звеном, на котором держалась операция. Его выследили и раскрыли. Он пошел ко дну.
Собственно, теперь все они шли ко дну. Даже еще хуже. И это все меняло.
Он схватил телефонную трубку и набрал номер.
СПНБ Поттер ответил на втором гудке.
Такер сказал:
– Нам крышка. Стопроцентная.
Тик-тик-тик.
Секундная стрелка старомодных настенных часов в очередной раз обежала циферблат по кругу.
Приемная, в которой сидела Чун-Ча, была исключительно утилитарной, не особенно чистой и нагоняла тоску – на всех, кроме нее. Она сидела бесстрастно, ожидая своей очереди.
Разглядывая секретаря в военной форме, сидевшего за металлическим столом возле двери, в которую ей предстояло войти, Чун-Ча позволила мыслям вернуться далеко в прошлое. Хотя не так уж далеко – в Йодок, где часть ее навсегда останется в заключении, в какой бы стране мира она ни находилась.
В лагере были учителя, преподававшие детям базовое правописание и арифметику, чем образование и ограничивалось. Все это время ученикам внушали, что они должны быть готовы к тяжелому труду. Чун-Ча начала работать в угольных шахтах с десяти лет, голыми руками ковыряться в горной породе и терпеть побои за невыполнение дневной нормы.
От учеников в классе ждали, что они будут доносить на других, и Чун-Ча не являлась исключением. Поощрение было скудным: чуть меньше побоев, чуть больше капусты и соли, чуть меньше ученических собраний, где их вынуждали признаваться в воображаемых прегрешениях, за которые избивали. Чун-Ча дошла до того, что каждый день являлась в класс с надуманными проступками, потому что, если каяться было не в чем, били вдвое сильнее. Учителя откровенно наслаждались, когда ученики чувствовали себя слабыми и униженными. Эти же люди были одновременно их охранниками, и учили они только насилию, предательству и боли.
Там была одна девочка, немного старше Чун-Ча, которая обвинила родителей в том, что они воруют у нее еду. Родители избили ее и обвинили в том же самом.
Чун-Ча выступила в ее защиту; она видела, как те родители крали еду у своих детей.
В результате Чун-Ча затащили в подземную камеру и подвесили в клетке за ноги, а потом охранники несколько часов кололи ее острием клинка, раскаленного на огне. Она вдыхала запах собственной горящей плоти, но крови почти не было, потому что металл прижигал раны.
Ей так и не объяснили, почему она была наказана за правду. Когда ее наконец выпустили и вернули в лагерь, девочка, которой она помогла, донесла на нее. Трое охранников избили Чун-Ча до того, что она не могла пошевелиться – просто лежала на полу и молила о смерти.
Ей перевязали раны и на следующий день отправили в поле, собирать урожай. Она с трудом держалась на ногах, и тогда привели ее отца, чтобы он ее побил, что он и сделал, потому что его избили бы еще сильней, если бы он отказался. Другие работники плевали в нее, потому что если один в бригаде не выполнял норму, наказывали всех.
Каждый день охранники пороли ее кнутом на глазах у всего лагеря. Заключенные плевали и осыпали ее проклятиями, а потом набрасывались с кулаками, когда порка заканчивалась.
Когда Чун-Ча однажды плелась с площади после такого избиения, охранник у нее за спиной сказал кому-то: «Упертая маленькая сучка».
Чун-Ча с отсутствующим видом почесала шрамы на руках, где ее тыкали раскаленным клинком. Девочка, которая донесла на нее, через месяц умерла. Чун-Ча заманила ее в уединенное место, пообещав пригоршню кукурузы, и столкнула со скалы. Ее тело – точнее, то, что от него осталось, – нашли только зимой.
С того дня Чун-Ча, «упертая маленькая сучка», никогда не говорила правды.
Дверь открылась, и мужчина посмотрел на нее. Он тоже был в военной форме – генеральской. Чун-Ча они все казались на одно лицо.