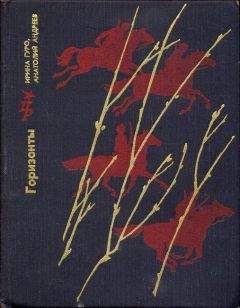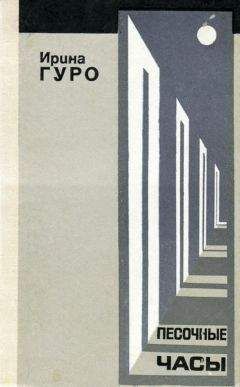— Вот-вот, — подхватила я, — они вместе с нами сидят на собраниях, говорят хорошие слова…
— Лелька, а как же ты раскрыла дело? — спросил Володя с ноткой уважения в голосе.
Этого-то я и дожидалась, умалчивая о том, с чего началось дело «Лжекооператив», затем, чтобы Володя сначала понял, какое именно это дело и как оно отражает особенности нашей противоречивой эпохи. Меня распирало от гордости потому, что «Лаккооп» долгое время был окружен такой конспирацией, что подобраться к нему никто не мог. И даже Самсонов на пятиминутке публично признал, что у меня «удачный дебют». А судья Наливайко, который не знал, что такое «дебют», но прекрасно знал слово «дебаты», поправил: «Дебат!»
И теперь я с удовольствием рассказывала Володе, как я «шла от общего к частному», что называется «методом дедукции». Сначала установила через специалистов, где именно, кем именно тормозится производство лака в государственных предприятиях. А потом «вышла» на одного снабженца, который крупно играл в казино неизвестно на какие средства. В это время у Моти Бойко развернулось дело о жуликах — администраторах казино.
— Ты помнишь Мотю Бойко? — Конечно, Володя помнил. Еще бы не помнить! — «Толстовка» и бант на шее? Ничего подобного! К этому времени Мотя сделал грандиозную карьеру в уголовном розыске и носил модный костюм с брюками «шимми» и пиджаком таким коротким, что, если отрезать рукава, получилась бы вполне жилетка… Так вот, Мотя вел дело мошенников из казино, и выходило, что они путем сложных махинаций устраивали выигрыш своим людям, а среди этих людей был тот снабженец. И когда его привлекли к дознанию по делу казино, тут появилась я со своими лаковыми вопросами. С этого начало разматываться дело «Лжекооператив». Так я добралась до Бондаря и даже до его тайника под полом. Потому что бухгалтер Бондаря совсем не хотел быть главным лицом по делу и рассказал, где находится подлинная бухгалтерия «Лаккоопа».
А из нее мы узнали, кому, где и сколько заплачено за процветание «Лаккоопа», в том числе и снабженцу из казино. После этого Бондарь все признал, потому что деваться ему было некуда. И уже не рассказывал никаких историй, а только спрашивал: «А учтет ли суд мое чистосердечное признание?»
— Учел? — с интересом спросил Володя.
— Не очень, — заключила я и показала Володе десять пальцев.
— А лак?
— Вот за лак-то и были сказаны слова про «удачный дебют». Кому нужен Бондарь? А лак нужен всем.
Я минуточку подумала и все-таки добавила:
— Про это дело даже в газетах писали. И называли меня молодым блестящим криминалистом с дедуктивным и еще каким-то мышлением.
Я не сказала Володе, что после заметки в газете даже не пошла на очередное свидание к Шумилову в больницу, опасаясь его иронии. Хотя в напечатании заметки моего участия вовсе не было. Репортеры ко мне, правда, ходили, но никаких интервью до конца следствия я, понятно, давать не могла, а закончив дело, направила его в прокуратуру. Там-то и приветили репортера.
Но все равно Шумилов мог что-нибудь ядовитое сказать. И если даже не сказать, а подумать, так все равно я бы увидела…
Было далеко за полночь, давно стихло все в квартире, замолк за стеной ребенок и звонки трамваев на улице.
— А ты, Володя? Как ты живешь?
— Работа… — неопределенно уронил Володя, помолчал и неожиданно выпалил: — Я, Лелька, женюсь…
«Как это женишься? И почему, собственно?» — готова была закричать я. У нас еще никто не женился! Даже Шумилов был неженатый.
С другой стороны, почему бы Володьке и не жениться? Я тоже могла бы выйти замуж. Правда, поблизости не высматривался ни один претендент, но теоретически…
— На ком же ты женишься? — подавленно спросила я, хотя еще никак не могла примириться с самим фактом. Про себя я пробежала по всем мыслимым кандидатурам, но ничего подходящего не нашла. Не на воровке же за стеной!
— Сейчас! — Володя оживился, поерзал на стуле, взъерошил волосы, и мне даже показалось, что он сейчас поплюет на ладони и потрет их одна о другую, как он это делал, берясь за колку дров или уборку снега.
Но за этими приготовлениями последовало лишь долгое молчание.
Я деликатно не торопила его, полагая, что он собирается с мыслями и сейчас последует какая-то необыкновенно романтическая история, скорее всего связанная с транспортом: «Голубой экспресс», «Происшествие в почтовом вагоне», «На глухом полустанке» — замелькали в моей памяти названия кинокартин.
— Понимаешь, Лелька, — выговорил наконец Володя упавшим голосом, — это очень необыкновенная девушка. Ее зовут Клава.
Я ждала, что последует дальше. Но, видимо, утверждение Володи следовало принимать на веру.
— Конечно, она должна быть необыкновенной, раз ты на ней женишься! Не женился, не женился и вдруг женишься! — сказала я и вспомнила, как мы с Володей разыгрывали жениха и невесту в Лихове.
Володя очень изменился с тех пор. То, что мне показалось с первого взгляда озабоченностью, было не то, что вот он сегодня просто чем-то озабочен. Нет! Тут было какое-то новое качество. И то, как он сказал это слово: «Работа!»
Не просто работа, а ответственность. Та самая, которую и я чувствовала на своих плечах. А плечи у нас с Володькой были все-таки молодые. И работа нас старила.
— А чем занимается Клава? — спросила я. — Чем она уж такая необыкновенная?
— По детской беспризорности… — Володя показал большим пальцем на стенку: — Это она мне ее сюда подбросила.
Володю вдруг прорвало, и он, совершенно отвлекшись от Клавы, начал с увлечением рассказывать, как проводится эта благородная работа: ликвидация детской беспризорности, начатая еще Дзержинским, и как они на транспорте подбирают беспризорных еще и сейчас. Мальчишки эти совсем одичавшие, плюются и кусаются, но все же, когда их водворяют в эвакоприемники, а потом распределяют по детским домам, они уже оттуда не бегают, как раньше.
— Понятно, их теперь там кормят, — опрометчиво предположила я.
— Кадры воспитательниц — вот что решает! — Володя снова замолчал и потом добавил: — Клава как раз воспитательница.
— Когда же ты намерен жениться? — Я подумала, что мне, вероятно, следовало съехать с Володиной квартиры в предвидении таких событий. Но Володя мрачно сказал, что «вопрос пока не утрясен», поскольку Клава еще ничего не знает.
— Чего не знает? — удивилась я.
— Ничего! — Володя расстроился, и я уже пожалела, что выказала удивление.
— И ты не объяснился с ней?
Володька посмотрел на меня потерянно и тихо-тихо произнес:
— Не решаюсь.
Изумлению моему не было границ. И тут-то я поняла, что Володя обязательно женится на необыкновенной Клаве.
Когда мы наконец улеглись — я на солдатской жесткой Володиной койке, он на полу — и щелкнул выключатель, в комнате все равно остался свет — от уличных фонарей. И это не давало забыть, что я в Москве и что не позже чем завтра мне предстоит войти в московскую жизнь и кто его знает, как это получится.
Чтобы не думать об этом, я обратилась к тому, что не досказала Володе. Мне хотелось разобраться в этих последних днях перед Москвой и, может быть, все-таки найти объяснение: почему Шумилов вызвал меня в Москву. Именно меня.
После больницы его увезли в загородный санаторий. Кажется, Иона Петрович разрешил своему папе привозить ему какую-то еду, потому что по тем временам поправляться на санаторном пайке было невозможно. А Иона Петрович все-таки поправлялся.
Я сошла с местного поезда на дачной платформе, где ее обозначала только начисто вымытая дождями дощатая будка.
Все еще стояла ранняя осень. Клены местами желтели, местами краснели, но в густой зеленой шевелюре берез пробивались только тонкие желтые прядки, словно ранняя седина.
Я сбросила свои туфли-«пупсик» и, связав их шнурочками, несла в руке. Глубокие колеи дороги были по- летнему теплыми и сухими. В кювете обочь, в русле высохшего ручья, мелькнула ящерица осеннего желтого цвета. И прощальное уже было в теплом еще воздухе, в шумном перелете птиц и в гудке маневрового паровоза далеко, на большой станции.
Завидев на пригорке бывший помещичий дом, я вытерла лопухами «пупсики», надела их и причесала волосы, взлохмаченные ветром. На мне был мой зеленый костюм, хотя я имела мало шансов на то, что Шумилов его заметит: мой начальник всегда был отвлечен от того, кто как одет. И хотя выглядел щеголем, но это вроде само собой получалось.
Шумилов сидел в саду, в беседке, с гостем. Гость был известный: Мотя Бойко.
Хотя никто ни одного слова ни разу не сказал по поводу того, что Шумилов заслонил Мотю собой тогда, на операции, никогда ни слова об этом не сказал и Мотя, я знала, что он об этом думает. И когда он говорил о Шумилове, то голос его становился таким тихим-тихим и даже нежным, как будто в комнате спит ребенок. И его смешная физиономия с рыжеватыми коротенькими усиками приобретала выражение вовсе не подходящее для старшего инспектора уголовного розыска.