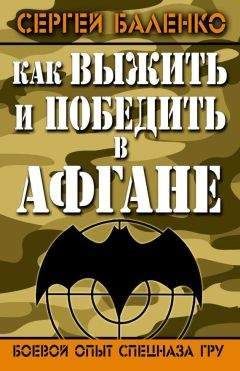Звонил Сорокин.
- Ну и чучело же ты, Забродов, - заявил он. - Мой дед про таких говорил: в горячей воде купанный. Псих, короче говоря. Да еще и дурак к тому же. Кто же такие вещи по телефону обсуждает?
- Просто я заранее знал, что встречаться ты не захочешь, - сдержанно сказал Иларион. - Тебе ведь известно, что мне от тебя нужно, а по телефону отнекиваться легче. Что, скажешь, не так?
- В общем-то, примерно так, - смущенно засмеялся Сорокин. - Но ты меня переубедил. Особенно хорошо у тебя получилось про то, как мы всем управлением ищем свою задницу - общую, надо полагать. Интеллектуальный рост налицо, Забродов. Юмор стал тоньше и в то же время доступнее пониманию народа, повысилась образность речи... Твои книжки наконец-то начали приносить тебе пользу. Что ты сейчас читаешь - "Антологию матерных анекдотов" или "Словарь бранных эпитетов"?
Слышимость оставляла желать лучшего: в трубке раздавался уличный шум, визжали тормоза и вскрикивали автомобильные гудки. Иларион понял, что Сорокин ушел от греха подальше на улицу, дабы завершить столь неудачно начатый разговор. Это вселяло некоторую надежду.
- Ты зачем звонишь? - спросил Иларион. - Комплимент сказать?
- Я слышал, ты уезжаешь, - сказал Сорокин. - В отпуск или как?
- В отпуск, - проворчал Иларион. - Или как. Ты что, с луны свалился? Какой у меня, пенсионера, может быть отпуск?
- У тебя, пенсионера, отпуск может быть всякий, - с большой уверенностью сказал Сорокин. - Нормальные люди ездят отдыхать от работы, а ты, наоборот, от безделья. Когда едешь-то?
- А кто вообще сказал, что я куда-то еду? Завтра.
- Это хорошо. А далеко ли едешь?
- Далеко. Дальше этого места без загранпаспорта не заберешься. А какое, собственно...
- Это хорошо, что далеко, - перебил его Сорокин. - Чем дальше, тем лучше. Я хотя бы отдохну... Только не говори мне, куда именно. Не хочу я этого знать. Завидовать не хочу: вот, мол, в каких местах люди время проводят, а я все на даче с кабачками воюю...
- С кабачками не надо воевать, - сказал Иларион, начиная понимать, к чему клонит полковник. - Их выращивать надо. Холить, лелеять и поливать. Эх, ты, огородник.
- Холить, - проворчал Сорокин, - лелеять... А я их, может быть, с детства терпеть не могу. От одного их вида с души воротит, а жена не представляет себе огород без кабачков. Да у нас на даче только они, проклятые, и растут. Да еще лебеда. Тьфу ты, пакость какая! Вспомнил, и поясницу заломило.
- Да уж, - без тени сочувствия сказал Забродов.
- Я чего звоню, - каким-то совсем расслабленным голосом сказал Сорокин. - Надо бы встретиться до твоего отъезда, как ты полагаешь? А то уедешь, и поминай тебя, как звали. Потом с милицией не сыщешь... Не сыщешь ведь, а?
- Ты милиция, - сдержанно сказал Иларион, - тебе виднее. Может быть, и не сыщешь.
- Точно, не сыщешь, - убежденно сказал Сорокин. - Вот я и говорю: встретиться бы нам. Часиков в восемь, в полдевятого. А?
- А что так поздно? Я весь день свободен.
- Это ты свободен, а наша служба, сам понимаешь, и опасна, и трудна. Надо тут закончить кое-что - кого посадить, кого выпустить, а кого вообще расстрелять к такой-то матери в нарушение моратория на смертную казнь... Проверить кое-что надо, кой-куда позвонить... Дела, в общем.
- В восемь так в восемь, - не стал спорить Иларион. - Только не забудь, что у меня завтра в три самолет.
- В три чего?
- Чего надо. В пятнадцать ноль-ноль, понял?
- Успеешь ты на свой самолет, - сказал Сорокин и отключился.
Заполненный ожиданием день прошел сумбурно. Он отложился у Илариона в памяти как один большой перекур, к концу которого у него начало саднить горло и стала разламываться голова. Даже визит к Пигулевскому не принес облегчения: антикварную лавку Марата Ивановича в последнее время одолевали тараканы, которые пугали посетителей, шуршали за обоями, жрали все подряд и, по словам хозяина, даже пробовали на зуб рисованные буквицы с старых рукописных книгах. Мириться с таким положением было невозможно, своими силами Марат Иванович справиться с нашествием не мог и в конце концов обратился за помощью в санэпидемстанцию. Илариона угораздило приехать к нему в самый разгар боевых действий, так что их традиционное чаепитие омрачалось недвусмысленным запашком большой химии и частыми отлучками Пигулевского, который то и дело срывался в подвал посмотреть, не уничтожили ли заодно с тараканами и его драгоценные книги. Окончательно расстроившись, Иларион махнул рукой и убрался восвояси, чего милейший Марат Иванович, кажется, даже не заметил: в это самое время он тонким срывающимся голосом кричал на сутулого мужика в противогазе, который ненароком задел своим шлангом вазу китайского фарфора, едва не сбросив ее с подставки. Мужик угрюмо и глухо огрызался сквозь маску.
Иларион тихо покинул лавку, сел в машину и отправился домой, на Малую Грузинскую. По дороге он снова, уже в который раз, попытался представить, как и что станет делать там, на краю света, но у него опять ничего не вышло: ситуация была слишком неопределенная, противник казался недосягаемым и почти нереальным, и Забродов сильно напоминал себе муравья, деловито прикидывающего, с какого конца лучше начинать есть слона - с головы или с хвоста. А слон-то, бедняга, даже не подозревает, что на него положил глаз такой страшный хищник - пасется себе, травку щиплет...
"Ладно, - сказал себе Иларион. - Это мы еще посмотрим, кто слон, а кто муравей. На месте разберемся, как быть и что делать. На месте всегда виднее."
Сорокин явился к нему домой в двадцать двенадцать. Это было, что называется, в пределах допуска, но за последние двенадцать минут Иларион совсем извелся так, что даже самому сделалось смешно. Он поймал себя на том, что грызет ногти от нетерпения, и очень обрадовался, когда в дверь наконец-то позвонили.
Сорокин был в штатском. Прежде чем войти, он зачем-то оглянулся назад, на пустую лестничную клетку, как будто опасался слежки. Иларион позволил себе мысленно позлорадствовать: полковник впервые шел на должностное преступление, которое задумал не он сам, и чувствовал себя не в своей тарелке. Впрочем, у них с Мещеряковым были прекрасные отношения, так что кто знает, что он там задумывал и чего не задумывал.. Забродов был знаком с милицейским полковником Сорокиным не первый год и хорошо знал, что тот далеко не ангел. Бывало, что Сорокин, убедившись в полном бессилии правосудия перед очередным мерзавцем, вершил суд и расправу по собственному усмотрению - увы, не без помощи Забродова. Иларион не мог бы с уверенностью сказать, хорошо это или плохо. С одной стороны, закон следовало уважать хотя бы из принципа; с другой же, как ни крути, уважать закон, который не работает, оказывалось трудновато. Илариону иногда становилось жаль Сорокина, который был представителем закона и на каждом шагу оказывался связанным по рукам и ногам как раз в тот момент, когда от него требовались решительные действия. Именно в таких случаях Сорокин тайно прибегал к помощи Забродова, проявляя порой чудеса изобретательности, чтобы заставить его принять участие в очередном деле. Теперь все получалось наоборот, и это было бы даже забавно, если бы речь шла не о Мещерякове, а о каком-нибудь постороннем человеке.
Сорокин вошел в знакомую комнату, где книги и антикварные безделушки в странной гармонии соседствовали с метательными ножами и армейской чистотой. Рядом с кроватью стояла собранная дорожная сумка и объемистый фотографический кофр, потертый, поцарапанный, с облупившейся краской, служивший своему хозяину не один год. Сорокин никогда не слышал, чтобы Забродов увлекался фотографией, и кофр этот он видел впервые. Впрочем, полковник хорошо владел собой, и брошенный им в сторону кровати озадаченный взгляд был первым и последним.
- Ну? - нетерпеливо произнес Забродов, усадив полковника в кресло.
Прямо напротив кресла на стене висел большой липовый спил. Поверхность его была варварски истыкана ножами, ближе к центру она вообще напоминала решето. Четыре увесистых метательных ножа торчали в спиле так близко друг от друга, что напоминали какой-то диковинный железный цветок с длинными узкими лепестками. Еще один нож лежал поверх стопки книг на столе, прямо под рукой у Сорокина. Полковник, как всегда, испытал почти непреодолимое желание метнуть нож в мишень и, как всегда, сдержался: ему, солидному и уже немолодому человеку, не пристало развлекаться таким несерьезным способом. К тому же он боялся промазать и что-нибудь разбить или испортить. По этим двум и еще многим другим причинам нож бросать он не стал, но ощутил острый укол зависти к Забродову. Забродов же не боялся показаться смешным и несолидным и практически никогда не мазал.
- Чего-то не хватает, - сказал полковник, ослабляя узел галстука и расстегивая верхнюю пуговицу рубашки.
Забродов присел на краешек стола и невесело усмехнулся.
- Двух вещей, - сказал он. - Мещерякова и бутылки.