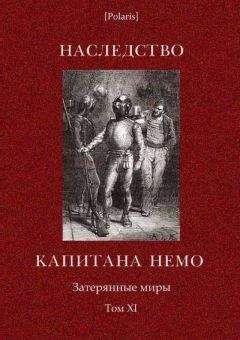Ознакомительная версия.
Любовь – это ведь навеки. Даже если чужая.
В этом храме всегда тишина, наверное, потому, что он лишь существует в моем воображении, а следовательно, я сам властен над звуками, в нем царящими. Я их стираю, закрашиваю белым, мысленно провожу кистью по шорохам, скрипам, курлыканью голубей, по стуку ставен, даже по звуку собственного дыхания, и каждое движение приносит еще немного тишины.
Да, пусть будет так. Меня утомляет все это… необходимость говорить, необходимость слушать, необходимость вообще делать что-либо, и я не делаю. Я сижу с закрытыми глазами и разглядываю свой храм. Пожалуй, я даже знаю, кто будет обитать в нем.
Странно, да? Строить храм, не выбрав бога, но ведь их столько вокруг… Грозный Яхве и его прообраз – светоносный Осирис, супруг и брат милосердной Изиды, убитый и воскресший из мертвых, спустившийся в подземелья Нила с тем, чтобы создать страну мертвых и вершить свой суд… Осирис мне более симпатичен, хотя, пожалуй, я знаю, что его не существует.
Как и того, другого, безымянного, которому возносят жертвы миррой и ладаном, колокольным звоном да сухими ветками вербы, запрятанными за икону. Этот смотрит на людей глазами святых, прощая и в то же время предупреждая: я вас!
Этот, самоуверенный, ждет, что именно для него воздвигнут мой храм, но, увы, я не готов отдаться ему настолько, насколько он того жаждет.
Этот бог не оставит мне меня, как не оставил мне Машеньку.
Что ж, к счастью, есть и другие: кошкоглавая Бастет, несущая мир в дом, сокол-Гор, львица-Сехмет с кровавыми клыками и сонным взором… Или не Египет? Допустим, Греция.
Зевс-громовержец? Зевс сладострастный, похититель Европы, соблазнитель Данаи? Зевс-отцеубийца? И с ним в паре царственная Гера? Нет, слишком шумны и беспокойны. Тогда Аид и Персефона? Хозяева мертвых пустошей подземного царства, эти ценят тишину так же, как и я…
Но с ними придут мрак и тлен.
Деметра, Аполлон, Артемида, Гелиос, Гермес… Бесчисленная череда имен и ликов, что заглядывают в приоткрытую дверь и отступают, сами отказываясь от чести быть моим богом. Людям не пристало выбирать, ведь обычно случается наоборот.
И храм мой пуст, и в нем тоска и тишина, и я уже, забыв обо всем, готов кричать, взывая:
– Где же?
Но в храме нету места звукам, я сам их стер. Я сам себя обезбожил.
И заснул, сам не заметив, как это случилось. И как обычно, понял, что сплю, но меж тем храм мой был реален, как никогда: тускло мерцали мраморные плиты, иссеченные узорами, и тянулись к небу колонны, меняясь на глазах, теряя египетскую монументальность в угоду греческой легкости. Портики и арки, статуи безликие и мутные, словно туман, их окутывавший, пытался защитить их от взора оскорбляющего. Создателю не дозволенно лицезреть наготу создания, он и так знает слишком много.
Я шел вперед, я ступал меж факелов и чаш, в которых клубилось рыжее пламя, я знал, что если получится пройти дальше, к алтарю, я увижу бога своего.
Мне очень нужен бог, я устал от одиночества.
И я почти дошел, когда сзади раздалось рычание. Ненавижу собак, особенно таких: черны и огромны, взращены воображением моим до немыслимых размеров. Вздыбленные загривки, оскаленные морды, пылающие алым глаза.
– Прочь пошли! – уже понимая, что не отступят, я силился голосом напугать этих существ, пришедших в мой храм из иного давно забытого мира. Они были не званы и опасны, они не собирались уходить, ведь стигийским псам не ведом страх.
– Прочь!
– Не гони моих слуг, человек, – вдруг раздалось сзади, и я, позабыв об опасности, обернулся. И упал на колени, и руки протянул, уповая на милость и защиту у той, что спускалась по ступеням.
Я сразу узнал ее, Гекату Хтонию, Подземную; Гекату Уранию, Небесную; Гекату Пропилею и Гекату Энодию, богиню пределов, дорог и перекрестков, для которой нет преград и запретов. Дочь Перса и Астерии, мать Сциллы и Эмпузы.
Она не была прекрасна той красотой, которую присваивает богиням молва, – чересчур худощава, темноволоса и смуглокожа и отлична от эллинок, коим покровительствовала. И она, чудесная, знала об этом, а я, в свою очередь, неведомым способом знал о знании ее.
– Не причинит тебе вреда моя свита, – сказала Геката, и, повинуясь голосу ее, стигийские псы легли. – Как и ты не чинил вреда тем, кто был под заступничеством моим.
А в глазах у нее отблеск того самого пламени, что ныне величают адским.
– Встань. Подойди.
Я повинуюсь, я счастлив, что могу почтить мою богиню исполнением воли ее. Я приближаюсь, вдыхая аромат кедрового масла и меда. Я вижу каждый завиток ее волос, каждую складку белого хитона, каждый язычок огня на факеле, который она держит.
А во второй – плеть. Длинная, на жесткой ручке, к которой прикреплена ременная петля, что обвивает тонкое запястье; плетенная хитрым способом, перетянутая медными колечками по всей длине. Плеть кажется живой, как и волосы Гекаты…
– Не бойся, человек, – улыбается она и, протягивая плеть свою, говорит: – Возьми.
Беру, и вот уже петля сама обнимает мое запястье, прижимаясь и словно бы прорастая под кожу, а следом приходит понимание, что стая псов отныне послушна мне.
Уже не рычат, не скалятся даже, и шерсть на хребтах опала, они словно бы и уменьшились, превратившись в обыкновенных дворовых собак, разве что чересчур крупных.
– Да, человек, ушел Аид, иссякла в слезах Персефона, издох трехголовый Цербер, ушли в небытие и мертвые герои, и даже великий покорный Хроносу Стикс обмелел. А они выжили, выбрались в мир иной, переступив порог по следу моему, и стали людьми.
Теперь в голосе ее мне слышится печаль, и я готов сердце вынуть из груди, лишь бы она не огорчалась, но Гекате не нужно сердце.
– Я приглядываю за ними, не позволяя слишком многого, но…
И тут я снова понимаю, что это – сон, всего-навсего сон об опустевшем храме, самовольно занятом той, которую я не звал. Геката – хозяйка ночи, а заснул я днем. Геката покровительствует женщинам, а я – мужчина. Геката никому не отдала бы плеть свою и стаю стигийцев, ведь, кроме нее, с ней никто не управится.
Вернуть и проснуться! Хотя бы проснуться, но… не отпускает забытая богиня.
– Не спеши, человек, скоро я и вправду уйду, вероятно, навсегда. Меня не держит этот мир, ведь люди больше не ставят статуи мои на перекрестках и у порогов, не молят об удаче, покидая дом, не приносят дары…
Мед! Проснувшись, я непременно принесу ей мед в дар, и лук, и…
Я просыпаюсь, как-то резко и вдруг, захлебываясь счастьем и страхом, сжимая в руке подаренную плеть и понимая уже, что не плеть это вовсе – лишь подлокотник кресла. А на зубах по-прежнему вязкий дым храмовых огней, и ноздри щекочет запах кедрового масла и меда.
Ну конечно, я ведь склянку не закрыл, я сегодня экспериментировал с заживлением ран и маслом, а потом устал, присел в надежде отдохнуть хоть пару минут – и заснул.
Привидится же… Геката… стигийские псы… я бы, пожалуй, понял, случись узреть Гермеса Трисмегиста или же Асклепия – вот уж кому молиться бы, но чтобы сама Безымянная…
– Егор Ильич! – в комнату заглянула Марьянка. – Егор Ильич! Идемте чай пить! С медом!
Вот неугомонная. Марьянка всегда так говорит, восклицая, словно вот-вот ударится в панику, а то и вовсе завизжит, как в тот раз, когда увидела мышь. Она жалостливая и пугливая, готовая по любому поводу разразиться слезами или же радостным, громким смехом, каковой не подобает женщине ее воспитания и положения. А Марьянка о воспитании не думает, ей радостно жить, удивительно…
Таких вот Геката защищает, к таким бы ей являться.
Чай пить пошел. И, сидя за столом, на обычном, почетном месте, исподтишка разглядывал сестер милосердия. Марьянка щебетала, охая, ахая, черпая серебряной ложечкой свежий липовый мед, и облизывая ложечку, и краснея, стесняясь запоздало этой своей детской привычки. Она круглолица и румяна, несколько полновата, и окружающие воспринимают детскую Марьянкину сдобность как признак врожденной доброты.
Не ошибаются.
А вот Софья другая: строга, и даже слишком. Пожалуй, узкое лицо ее с черными широкими бровями малоподвижно, словно лишь одно выражение – раздраженной брезгливости – способно прижиться на нем. Узкие губы всегда что-то шепчут, чаще всего молитвы, иногда – стихи, я знаю потому, что выпало подслушать. Наши пациентки Софью недолюбливают за холодность, но на самом деле она – заботлива и самоотверженна, как никто иной.
Ознакомительная версия.