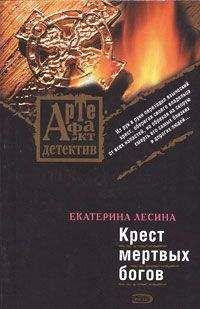Ознакомительная версия.
Тогда еще не знали, что труп первый, тогда просто злились из-за тела, из-за того, что приходится тащить все это тошнотворное добро вверх, потому как спустить машину вниз никак невозможно. А тащить – значит прикасаться, пусть даже через плотный полиэтилен мешка… и понятно, что дело мертвое, как этот пацан, ведь прошло недели три. Весенние недели, полные дождей и тающего снега, отполировавшего глиняные стены оврага до блестящей желтизны. Нет улик. Нет свидетелей. Есть только труп. И криминальный, потому что дыры в черепах сами не появляются, и клейма на груди тоже. Дело повисло мертвым грузом, установить личность парня не удалось, а больше зацепиться не за что.
Тогда клеймо с убийством не связывали, от него вообще мало что осталось, от клейма.
А потом обнаружили второго. Тоже лесополоса, но не светлый березняк, а сумрачный, чуть диковатый ельник, неизвестно каким образом уцелевший на окраине мегаполиса. Несмотря на середину мая, там было прохладно и темно даже в полдень, и Светин снова матерился, требовал то посветить, то, наоборот, убрать фонарь и не затаптывать место преступления. Затаптывать там было совершенно нечего, плотный слой желтовато-рыжих прошлогодних иголок да зеленые пятна мха. И труп.
Камуфляжные штаны, майка-борцовка, берцы, бритый череп с дырой в виске и свивающийся в спираль крест на левом плече. А шестнадцать дней назад в подвале заброшенного дома обнаружили третий труп, тоже с клеймом и пулей в голове.
Баллистическая экспертиза подтвердила, что все три пули были выпущены из одного оружия.
Довольно редкого по нынешним временам оружия. «Наган», предположительно бельгийского образца, но возможно, что и российского производства конца девятнадцатого – начала двадцатого века. И это уже было странно, а заключение судмедэкспертизы, которое Руслан прочел четыре раза, чтобы убедиться – не примерещилось, – только добавило странностей. То, что стреляли в упор или почти в упор, он и без экспертизы понял, но вот то, что потерпевшие, судя по всему, сами нажимали на спусковой крючок, стало открытием.
Трое самоубийц, клейменных крестом?
И пропавший револьвер системы братьев Наган образца начала прошлого века?
Черная комедия с оттенком гротеска.
И вот комедия получила продолжение, к трем трупам добавился четвертый.
Быстро. И страшно. И странно, что газетчики до сих пор не пронюхали. А что, тема актуальная: серийный маньяк убивает неонацистов…
Скомканный лист все никак не желал расправляться, норовя выскользнуть из рук, да и пинцет оказался инструментом не самым удобным. Когда же наконец лист развернулся, внутри оказалось всего два слова.
«…мертвый крест…»
– И что это значит? – Гаврик глядел на ксерокопию найденной у мертвеца бумажки с невыразимым отвращением. Руслан не ответил, он и сам слабо понимал, что означает эта надпись. – И почему мертвый? И на крест не похоже, ни на православный, ни на католический. Может, секта какая-то? Тогда понятно, почему за этих взялись.
Вот что умел Гаврик, так это озвучивать накопившиеся вопросы.
Ну еще кофе варить, правда, с вопросами все равно получалось лучше. И сейчас тоже. Почему «за этих»? У жертв много общего, начиная с клейма на плече и заканчивая страстью к камуфляжу. Нацисты, неонацисты, националисты – Руслан особой разницы не усматривал и не то чтобы ненавидел, скорее не понимал подобных взглядов. Молодые и агрессивные ребята. Энергичные. Уже имевшие столкновения с законом, но избежавшие настоящих проблем благодаря деньгам родителей и адвокатам. Мертвые.
И если Руслан что-нибудь понимал, то это лишь начало.
Надоело, если бы кто знал, до чего же все надоело… Серость вокруг, грязь, мещанские попытки приукрасить кривые идеалы высокими словами… и бедность, бедность, неприглядная, непристойная.
Какая свобода, какое равенство?..Французская зараза всколыхнула русскую муть, подымая со дна то самое, укрытое, глубинное дерьмо, которое отчего-то привыкли считать «русским духом». В ком дух, в гулящих девках? В пьющих матросах? В солдатах, позабывших о присяге и чести? Или в таких, как я, предателях поневоле?
Во мне ничего не осталось, пустота, непонимание и желание поскорей уйти, избавившись от необходимости созерцать эту вселенскую агонию.
Самоубийство – грех, так меня учили в церкви, но церкви горят, рушатся, будто бесы революции, вырвавшись на волю, норовят первым делом избавиться от знака Божьего. Но что ж Он терпит? Отчего молчит, не снизойдет, не остановит всеобщее безумие?
Вчера я видел, как взрывали церковь, деловито, буднично, привычно. Окружили, отогнали тех, у кого хватило смелости вступиться, выбили окна, вынесли утварь, сгрузили на подводы. А я стоял в толпе и ждал, когда же Он, Всемогущий, вступится за Свой дом и за ту веру, которая умрет вместе со старым зданием.
Не вступился. Взрыв и слетевшая стена… Три другие держались, но купол оказался чересчур тяжелым, поехал вниз, переворачиваясь, и стены за ним по бревнышку раскатились.
Больно. До того больно, что желание уйти становится невыносимым. Достаю из ящика револьвер – каждый вечер одно и то же: высыпаю патроны, выбираю один, вставляю в барабан, кручу… американская рулетка, гусарская игра, моя последняя попытка договориться с Богом.
Я продолжаю существовать. Более того, днем боюсь смерти, выхожу из комнат по редкой надобности, к примеру, чтоб заложить в ломбарде, чудом сохранившемся на углу Старокупеческой – а ныне Революционной – улицы, очередную безделушку. Серебряные кольца для салфеток, серебряные ложечки, сервиз. Сущие копейки, быстро обесценившиеся к тому же: матушкина брошь, отцовский брегет.
Днем распродаю то, что осталось от прошлой жизни, а вечерами, мучаясь от стыда, играю в американскую рулетку.
Дуло к виску, взведенный курок, и палец чуть дрожит, того и гляди соскользнет.
Зачем я выжил? Многие погибли, друзья и родные… многие уехали, когда еще дозволено было бежать, многие просто исчезли в революционной круговерти. А я жив.
Господи, если Ты есть, дай же знак…
Нажать на спусковой крючок, медленно, до последнего оттягивая момент выбора… щелчок. Сухой и строгий. Снова пусто, снова мимо, и на вопрос мой нет ответа.
Если Ты есть, зачем держишь меня в этом мире, Господи?
Если Тебя нет, отчего я до сих пор жив?
Отцовский крест слабо греет грудь. Дышать становится чуть легче… а продуктов почти не осталось, завтра придется заложить портсигар. Серебро и тонкая восточная чеканка… хорошо, если четверть цены удастся сторговать.
Стук в дверь – вынужденная вежливость. После того как я заехал в челюсть одному «пролетарию», повадившемуся заглядывать в мою каморку без спросу, обитатели сего странного дома стали относиться ко мне с некоторым уважением. Вернее было бы сказать про страх, но эти грязные, случайно дорвавшиеся до власти существа не видят разницы между тем и другим, а мне приятнее думать, что меня уважают.
– Эй, товарищ, открывай, – сиплый голос, в котором странным образом сочеталась почтительность и злость, принадлежал нашему домоуправу, типу никчемному и раздражающему. Мечтает избавиться от «недобитой контры», и, если я прав в своих прогнозах, у него неплохие шансы исполнить желание.
Открываю. Мне неприятно беседовать с этим человеком, однако же порядок есть порядок.
– Спал, значит? – Домоуправ грозно хмурится. – Днем?
Не считаю нужным отвечать на этот вопрос, равно же объяснять что-либо. А домоуправ не считает нужным здороваться либо же просить разрешения зайти. Протискивается боком. То ли пес, то ли свинья. Воняет от него преизрядно: перегаром, чесноком, немытым телом… пожалуй, собаки почище будут.
– Сергей Аполлоныч, значит, Корлычев, значит… живешь тут, значит… в двух комнатах…
Не знаю, чем приглянулось нашему домоуправу слово «значит», но использовал он его едва ли не чаще, чем все иные слова, вместе взятые.
– Че молчишь? К-контра… – про контру говорит тихо и отступает чуток, видимо, опасается. Не зря опасается. Домоуправ раздражает меня неимоверно, полагаю, оттого, что является зримым воплощением нынешнего мира – запаршивевшим, спивающимся, по-мещански нахрапистым и бесцеремонно навязывающим собственные кривые идеалы.
– Вот, значит, уплотнять будем, – он осклабился. – Согласно решению комитета жильцов!
Он вытащил из кармана какую-то грязную бумаженцию.
– Зря, значит, на собрания-то не ходишь.
Может, и зря, но вряд ли мое присутствие помешало бы комитету вынести постановление. Постановления они выносить любят и предложения выдвигать, вот только исполнять их отчего-то некому, оттого на улицах грязь и выходить из дома противно… да что там из дома, когда я и из комнат своих – всего-то две после очередного уплотнения остались – выглядывать опасаюсь. Превратили квартиру в вертеп, дубовым паркетом печь топили, мебель изломали, картины попортили, портьеры на платья пустили… лучше не вспоминать.
Ознакомительная версия.