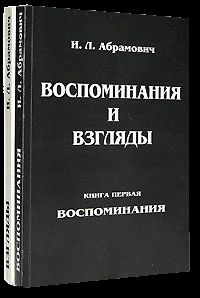- Хватит свидетелей, - сказал судья. - Пускай благодарит, что мы его судим, а не военно-транспортный трибунал. Мастерские-то паровозоремонтные.
- Спасибо, - серьезно кивнул Ходырев.
- Да ты что, папаня! - опять крикнул тот самый паренек. - Не старая власть, чтобы кланяться!
- Сиди, Генька, - приказал Ходырев. - С ими не поспоришь.
На руках у его жены зашелся в вопле младенец, и именно потому, что жаль стало и Геньку, и эту бабу, и младенца, Семченко решил не поддаваться жалости. Он встал:
- Можно мне выступить?
Судья удивился:
- Зачем?
- Позвольте, - вмешалась Альбина Ивановна, - в слушании дела имеют право принять участие один защитник и один обвинитель из числа присутствующих на заседании.
- А вы кто? - спросил судья. - Обвинитель или защитник?
- Это уж вы сами решайте. Я просто хочу зачитать суду и собравшимся вот это письмо, поступившее к нам в редакцию. - Семченко достал из карман? листок, развернул и помахал им в воздухе. - Вот... "В декабре 1918 года при эвакуации красных со станции Буртым был выброшен кем-то из вагона маховик с валом кривошипа двигателя внутреннего сгорания. Недавно ездил с женой в коопторг за мукой и увидел: он до сих пор лежит на станции Буртым, когда в республике нужда. Как же получаются такие дела? Муки нет, мыла нет, машина где-то стоит в бездействии, а маховик лежит. С комприветом Семен Кутьев"... Видите, товарищи, - Семченко посмотрел на Геньку, - что творится! Машины стоят, станки стоят. Мы даже хлеб из Сибири вывезти не можем, потому что паровозов не хватает...
- Покамест и лошади нужны! - подскакивая к эстраде, крикнул Генька.
- Правильно, - согласился Семченко. - Кто же говорит, что не нужны? И гражданина Ходырева мне, конечно, жаль. Но судить его следует по всей строгости настоящего тяжелого момента. Иначе этот момент и не кончится никогда.
Опять, надрывая душу, заверещал ходыревский младенец, и кто-то сзади сказал:
- Да не щипи ты его, бога ради! Не шипи...
- Перестань, мать! - Генька погрозил ей кулаком и бесшумно, по-кошачьи, вскочил на эстраду. - Вот если бы папаня мой только обрезки брал, вы бы его к штрафу приговорили? Так? А остальное он для доброго дела позаимствовал. Для всеобщего счастья. Так? Вот за эти обрезки и судите, по справедливости!
Семченко уже сидел на своем месте, испытывая почему-то чувство неловкости, хотя все вроде сказал правильно - меньше всего этот мужик заботился о всеобщем счастье. Потом поднял голову и встретился с ненавидящим взглядом Геньки, которого милиционер выводил из зала. Глаза у него были бешеные, чуть выкаченные из орбит.
Ходырева приговорили к году общественно-принудительных работ с высылкой из города.
Семченко выслушал еще одно дело, перекинулся с Альбиной Ивановной несколькими словами по поводу завтрашнего вечера в Стефановском училище, а когда вышел на улицу, сразу увидел Геньку: одна рука в кармане штанов, другая отведена за спину, напряжена в плече. Семченко двинулся к нему, намереваясь поговорить по-хорошему, все объяснить, и тут же пущеный камень скользом оцарапал скулу.
- Ты что? - Он остановился.
Генька отпрыгнул в сторону и заорал:
- Башка каторжная! Сука ты! Сука!
- Погоди, не трону, - смиряя себя, сказал Семченко. - Ты пойми! Если каждый под себя грести начнет, какое же тут всемирное счастье? Ты сам подумай! Если воруешь, отвечать надо.
Спокойным, лишь странно высоким от горловой судороги голосом Генька сказал:
- Влез-то зачем? Кто тебя звал, козел бритый?
Он бесстрашно стоял в двух шагах, скособочившись от напряжения, и такая ненависть была в его взгляде, что Семченко стало не по себе повернулся и пошел прочь.
Но ни о чем об этом, разумеется, Майе Антоновне рассказывать не стал.
- Значит, мы договорились, - напомнила она, провожая его к выходу. Встреча состоится завтра, в шесть часов. Здесь, в школе. Жаль только, что Кадыр Искандерович на курорте. Вы его помните?
Семченко с трудом вспомнил, что был такой Минибаев, лишь когда получил письмо от Майи Антоновны, но покивал уважительно: мол, как же не помнить?
- Кадыр Искандерович много рассказывал нам о клубе, о вас. - Она все время цитировала в разговоре собственное письмо. - Так жаль, что его не будет на встрече.
- А про певицу Казарозу он вам не рассказывал?
- Странная фамилия. Она тоже была эсперантисткой?
- Да нет, не была.
- Вы ведь в "Спутнике" остановились? - уже на крыльце спросила Майя Антоновна. - Какой у вас номер? Может быть, забегу вечером. Не возражаете?
- Триста четвертый, - сказал Семченко. - Милости прошу.
Спустился с крыльца, помедлил, подставляя лицо весеннему солнышку, потом сел на скамейку. Рядом, свесив голову, дремал маленький благообразный старичок, час назад заходивший в учительскую, - рот полуоткрыт, легкий белый пушок на темени шевелится от едва ощутимого ветерка, и Семченко с удовольствием подумал, что сам он никогда, ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе заснуть вот так, прямо на улице, под мимолетно-сочувственными взглядами прохожих.
Он достал и раскрыл бумажник, набитый не визитными карточками, как бывало когда-то, а старыми, давно использованными аптечными рецептами, которые из суеверия не решался выбрасывать. Нащупал в большом отделении плотную старинную фотографию на картоне с обтрепавшимися углами, осторожно вынул ее. Это был снимок с картины известного в предреволюционные годы художника Яковлева: ростовой портрет Зинаиды Казарозы; нарисовано в обычной для тех лет манере, одновременно галантной и фантасмагорической, какую Семченко привык считать декадентщиной. В центре полотна, окруженная не понятно откуда взявшимися дикими зверями, стояла крохотная изящная женщина с птичьей клеткой в руке. Звери были всякие, существующие в природе и придуманные Яковлевым, но все со свирепыми мордами, оскаленные, вздыбленные - и медведь, и присевший для прыжка тигр, и какой-то чудовищный мохнатый уродец с прямым и длинным рогом на поросячьем носу; даже мирный слон, и тот изготовился к нападению, воинственно взвив хобот и наставив клыки. Узкую, с круглым верхом клетку женщина держала за кольцо, чуть отведя в сторону, в клетке сидела райская птица, и взгляд у них обеих, у женщины и у птицы, был растерянный, недоумевающий, словно уже чувствуют близкую гибель, но не понимают, почему должны умереть именно здесь и сейчас.
В восемнадцатом году, в Питере, сидя в нетопленом театральном зале на Соляном Городке, где зрители курили прямо в креслах, и куда он попал случайно, когда бродил один по вымершим столичным улицам, Семченко увидел на сцене маленькую, удивительно сложенную женщину. Играла она в спектакле по пьесе "Фуэнте овехуна", то есть "Овечий источник", а по ходу действия, аккомпанируя себе на бубне или на гитаре, танцевала и вела песенки, ни мелодии, ни слов которых Семченко не запомнил, потому что во все глаза смотрел на певицу, других артистов попросту не замечал. Он сидел в первом ряду, развалившись, нахально вытянув перед собой ноги в забрызганных грязью офицерских хромачах, снятых с убитого поручика под Гатчиной, вызывающе передвинув кобуру с бедра на живот, и рядом с ним никто не садился, можно было раскинуть руки на соседние кресла. Пьеса была испанская, но вполне революционная, хотя даже это вскоре перестало интересовать: видел одну главную героиню.
У нее были темные, с вишневым оттенком глаза, круглый подбородок, гладкие, пепельно-русые волосы, сколотые на затылке, углом обрамляли лоб и лежали как-то очень просто, мило, словно и в обычной жизни носила такую прическу, не только на сцене. Была она в неких полупрозрачных белых одеждах, на другой женщине эта хламида выглядела бы нескромно, а на ней нет. И танцевала тоже просто и мило, как танцуют для собственного ребенка, причем босиком, не боясь занозить ноги о некрашеные доски пола.
В перерыве поинтересовался, кто такая, и объяснили коротко, удивившись, что не знает: Казароза, певица.
После спектакля, когда немногочисленная публика потянулась к выходу, Семченко пробрался за кулисы, отыскал Казарозу и предложил ей назавтра поехать в казарму, где стоял их полк, выступить перед бойцами. Он и сам понимал, что это предлог, не больше, просто хотелось увидеть ее еще раз, поговорить, услышать ее голос, обращенный не в зал, а лично к нему, Семченко. Время было смурное, маетное. Сегодня жив, завтра мертв. Через несколько дней полк отбывал на фронт, а пока все же в Питере стояли, в столице как-никак, в Северной Пальмире, и возмечталось вдруг о чем-то таком, особенном, вот и пошел. Думал, уговаривать придется, приготовился даже воззвать к ее революционной совести, если откажет, но она сразу согласилась. А на следующий день, после концерта в казарме, где пела странные, неожиданно вышибающие слезу песенки - про Алису, которая боялась мышей, про розовый домик на берегу залива, Семченко пошел ее провожать. Желающих обнаружилось много, но он всех отшил. И от лошади втихую отбоярился, сказав, что нет лошадей. Пошли пешком.