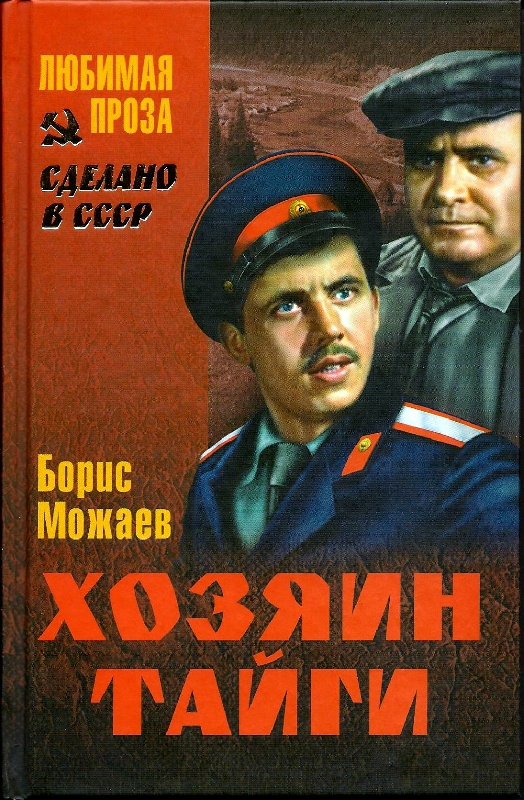на квартиру к Ускову.
Домик бабки Семенихи стоял на отшибе, возле ручья, под развесистым серебристым бархатом. Впрочем, здесь про каждый дом можно сказать, что он стоит на отшибе, потому что улиц в привычном понятии в Переваловском не было. Бабка Семениха, или, как ее звали в селе за гнусавый говор, Гундосая, встретила Сережкина у калитки палисадника.
– Заходи, родимый, заходи, – гнусаво приглашала она Сережкина. – Чай, забрали его, кормильца. А уж смирен-то он, смирен, батюшка! Ну чистое дите. Теленка не обидит… А поди ты, вот как вышло, – приговаривала она, идя в избу за Сережкиным.
В избе, усадив гостя на скамью, она тараторила без устали:
– Поверишь ли, как прибежал он, грешный, когда сплавщики-то буянили, так с перепугу-то на сушила в сено зарылся! Там и пролежал до полуночи. А потом сказал, мол, к милиционеру поеду… Вот те крест, никуда и не ходил он.
– Верю, верю, – остановил ее Сережкин. – Ты лучше вот что скажи мне: давно Нюрка не была у него?
– Да уж давненько, ден десять, почитай, как не было. И чтой-то она на него осерчала? Все с ним покончила, как отрезала. Он-то места не находил себе: за что, говорит, она на меня осердилась. Раза два к ней на стан норовил сходить, да будто и там не подпустила.
– Интересно, мать! – воскликнул Сережкин.
– Не говори! – взмахнула Семениха своими сухими желтыми руками. – Уж так интересно, что впору хоть самой сходить разузнать. А ты сходи, сходи, родимый.
– Ладно уж, схожу.
– Так-то, так-то. А его-то, сердешного, помоги ослобонить. Уж смирен – теленка не тронет.
– Ладно, ладно, ты уж сиди, – осадил он жестом Семениху, готовую проводить гостя. – Я сам тут похожу да на твои сушила загляну.
Тщательный осмотр двора ничего не дал Сережкину, и он возвращался от Семенихи в раздумье. Рассказ бабки о разрыве Ускова с Нюркой был загадочен. «Почему она порвала с ним так неожиданно? – спрашивал Сережкин. – Кабы любовь была, уж тут ясно было бы. А что, если она от него добивалась чего-то. Допустим, ей нужны были ключи. А?»
Для Сережкина ясно одно, что кража магазина не дело рук Ускова. Конечно, он мог быть сообщником, но…
«Но ведь надо доказать, кто украл. Надо найти воров. А если не найду я, Сережкин, кто же их найдет? Кто же тогда поверит Ускову, что он честен? – думал Сережкин. – И, ясное дело, воры будут посмеиваться надо мной. Да и не успокоятся. Еще чего-нибудь украдут».
«А может, Нюрка с Усковым маскировку разыгрывали на людях? Мол, мы не знаем друг друга, а сами договаривались потихоньку насчет кражи… Как бы там ни было, а следы надо искать на стане сплавщиков».
Сережкин давно знал бригаду сплавщиков, кочевавшую в этих местах по Бурлиту. Ребята в ней были хоть и чудаковатые, – половина из них бороды поотпустила, – но смирные, баловства раньше за ними никакого не замечалось. Однако в прошлом году пришел к ним на работу Чувалов Иван. Сильный, сухопарый, широкий в кости, он быстро выдвинулся среди них и стал бригадиром. У него густо усеянное рябинами лицо, за что ему дали кличку Рябой, и он получил известность в округе больше по кличке, чем по имени.
Сережкина предупредили, что за Рябым водились раньше грешки по части воровства. Старшина присматривался к нему, но Рябой вел себя безупречно. Однако бригаду сплавщиков словно подменили в последний сезон. Появились драки, набеги на село и даже одна крупная кража: двое сплавщиков обокрали рабочую кассу в леспромхозе. Сережкин нашел преступников, но у самих воров в стане выкрали четыре тысячи рублей – и никаких следов. Сережкин тогда сразу обыскал вещи Рябого, стал допрашивать его и… провалился.
Вот и теперь, чтобы не конфузиться, прежде чем пойти на стан, на сближение с Рябым, нужно самому точно убедиться, что воры скрылись в стане сплавщиков. Нужно было найти хоть маленькую, но явную улику, чтобы действовать наверняка. И Сережкин искал ее полдня. Он исходил тропинку, ведущую из села в стан, долго кружил поодаль от стана и обследовал каждый кустик. И уже под вечер, когда упорство его почти иссякло, он вдруг нашел под кустом жимолости, недалеко от тропинки, свежую, только что сорванную этикетку с черного куска крепдешина.
– Вот она, тикетка от крендэшеля, – ласково говорил Сережкин, с усмешкой разглаживая радужный бумажный лоскут на своей широкой ладони. – Ну, теперь мы посмотрим, кто кого одолеет!
Сережкин бережно положил этикетку в планшет и пошел на стан сплавщиков.
Километрах в двух от Переваловского на излучине Бурлита расположилась палаточным лагерем бригада сплавщиков. Здесь в жаркие дни сплава они ворочали баграми бревенчатые заторы, разводили по протокам легкие стайки бревен, а в большую воду вязали плоты. У них не было постоянного пристанища: в теплые времена бригада кочевала по берегам Бурлита, а с наступлением холодов размещалась обычно в поселках лесорубов.
Оторванная на многие месяцы от запани, бригада была предоставлена самой себе. Рябой по прибытии в нее сколотил вокруг себя звено из крепких парней. «Кто хочет заработать, становись в сторону, – говорил он, подбирая напарников. – Только не хныкать – кости трещать будут…»
И они двинулись по реке, работая по шестнадцать часов в сутки, нередко и ночевали на бревнах, там, где темень застанет.
Звено прогремело на всю запань, и Рябого избрали бригадиром. Он встретил это выдвижение просто, с такой внутренней уверенностью, с какой встречают наступление дня после ночи: мол, так и должно быть.
Рябой относился к тем властным и крутым натурам, которые не могут жить, чтобы не подчинять других, не распоряжаться ими.
Всех людей он делил на два разряда: на тех, которых надо заставлять подчиняться грубо, вплоть до применения кулаков, и на тех, которых надо убеждать подчиняться.
Первым столкнулся с Рябым Варлашкин, когда они еще работали в одном звене. Напившись однажды, Варлашкин лег на плоту животом кверху и объявил, что больше не работает и Рябой ему не указ. Время было горячее, даже уход одного человека грозил провалить работу всего звена. «Ничего, – успокоил Рябой сплавщиков, – я его вылечу». Он прыгнул на плот к Варлашкину и, оттолкнувшись от затора, уплыл с ним по реке за кривун. Возвратились они на другой день пешком молчаливые и хмурые. Татуировка на голом торсе Варлашкина была подкрашена лиловыми кровоподтеками. Никто не знал, что произошло между ними, только с этого дня Варлашкин стал правой рукой Рябого и преданным ему по-собачьи.
Рябой действовал по своему неписаному закону: он думал, что самое важное