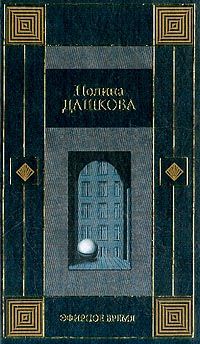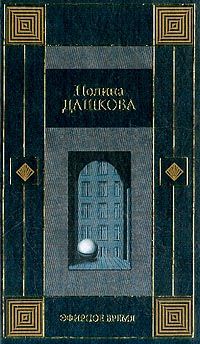– Да, конечно, простите. Вас Илья Никитич зовут? Вы извините меня, Илья Никитич. Я при нашей первой встрече вела с вами ужасно, но вы должны понять мое состояние. У вас есть дети?
– Нет.
– Наверное, вы счастливый человек. Теперь, после того, что случилось, я думаю, лучше вообще не иметь детей. Чаю хотите?
– Спасибо, – удивленно кивнул Бородин, – не откажусь.
– Пойдемте, провожу вас в комнату Артема, покажу, где лежат кассеты, вы отберете, что вам нужно, а я пока чайку заварю свежего. Не возражаете?
Илье Никитичу показалось, что его собеседницу подменили. Какой-то был здесь подвох. По паспорту ей пятьдесят пять. Сейчас перед ним настоящая леди, а пару дней назад это была взвинченная, испуганная, агрессивная истеричка, злобная страшная старуха, готовая орать, врать, угрожать, лишь бы… «Лишь бы что?» – спросил себя Бородин.
Она изо всех сил старалась скрыть, что ее муж был знаком с ювелирным делом. В общем, вполне понятно. Он нелегально работал с золотом и камнями у себя на квартире, она боится, что сейчас, в процессе следствия, вскроются какие-то старые дела. Непонятно другое. С какой стати она вдруг так резко изменила показания? Сначала, над трупом сына, заявила о трех тысячах, а потом вдруг – нате вам! – не было никакого долга.
Однако сейчас Елена Петровна просто ангел. Вот, пожалуйста, улыбается. И не подумаешь, что потеряла единственного сына.
– Проходите, Илья Никитич, не стесняйтесь. Простите, здесь у меня не прибрано.
В прошлый раз хозяйка пригласила его на кухню, а дверь в комнату плотно прикрыла.
Комнаты были смежные. Илья Никитич заметил у раскладной тахты старую швейную машинку. Это была громоздкая конструкция с ножной педалью, похожей на фрагмент чугунной ограды. На стуле висел огромный лоскут дешевой пестрой ткани. Вероятно, Елена Петровна латала или шила постельное белье.
В полированном серванте красовался стандартный чешский хрусталь и немецкий фарфор. Из фужеров и чашек никто никогда не пил, в вазочках конфеты не ночевали.
Все в этом доме было подернуто налетом серости, нищеты, какой-то нарочитой дешевизны и экономности. Илье Никитичу бросилась в глаза большая аккуратная заплата на вытертой обивке кресла, линялые льняные шторы, торшер с прогоревшим насквозь пластмассовым абажуром.
Саша Анисимов говорил правду. Родители Бутейко многие годы ничего, кроме продуктов, не покупали. Впрочем, маленькая смежная комнатка, в которой еще недавно жил их сын Артем, светский лев, тусовщик, любитель одеваться у Версаче, от родительской ничем не отличалась. Новенький японский телевизор с видеомагнитофоном и компактный, довольно дорогой музыкальный центр резко выделялись на фоне унылой опрятной нищеты.
Кассеты с интервью хранились в специальных коробках. Все они были подписаны, на каждой стояла дата и фамилия собеседника Бутейко.
– Елена Петровна, вы не возражаете, если я заберу их на некоторое время? – спросил Илья Никитич.
– Пожалуйста, я не возражаю, хотя совершенно не понимаю, зачем вам все это нужно.
– Что именно?
– Допросы, обыски, изъятие кассет с интервью. Вам как будто делать нечего.
Столько дел нераскрытых, столько преступников на свободе гуляет, а вы тратите время на то, что ясно без всяких усилий. Не понимаю, – она повела полными плечами, как будто даже кокетливо, и опять сверкнули в улыбке белоснежные зубы.
– Елена Петровна, когда речь идет о таком серьезном деле, как умышленное убийство, необходимо знать все совершенно точно. Нельзя ошибиться, – устало объяснил Бородин.
Он перекладывал кассеты в свой портфель, попутно читая надписи. Попадалось много знакомых фамилий. Бутейко брал интервью у известных эстрадных певцов, продюсеров, скандальных депутатов Госдумы, лидеров каких-то опереточно-радикальных крошечных партий. Рядом с некоторыми именами стояли специальные пометки, например, «Сюзанна Громова, жесткое порно», или «Вольдемар Райский, клуб геев».
– Да, конечно, все сразу я не унесу, – задумчиво произнес Илья Никитич, – придется наведаться к вам еще раз. Эти верну, новые возьму. Не возражаете?
– Конечно, конечно, я понимаю, их так много, вам нести тяжело.
Одну кассету Илья Никитич разглядывал дольше других. Надпись на ней была сделана не синей шариковой ручкой, а красным фломастером. Жирно, очень аккуратными печатными буквами было выведено «Беляева».
Точно такую же надпись Илья Никитич обнаружил еще на двух аудиокассетах и на одной видеокассете. Совершенно машинально он повернулся к Елене Павловне и спросил:
– Беляева – это, кажется, политический обозреватель ОРТ?
– Да, Елизавета Беляева, та самая, – не без гордости заявила Бутейко, – между прочим, когда-то они с Темочкой работали вместе, на одном канале.
* * *
Красавченко сидел в кресле, вальяжно раскинувшись, и чувствовал себя в Лизином номере как дома. Он все тянул время, держал паузу, он, правда, был неплохим психологом. Каждая минута неопределенности шла ему на пользу. Лиза нервничала все больше, чувствовала себя все хуже, а чем человек взвинченной, тем он слабей, тем проще им манипулировать. Она уже успела несколько раз задать простой и логичный вопрос:
– Что вам от меня надо?
– Внимания и уважения, – отвечал он бархатным елейным голосом.
– Это не серьезно. Давайте конкретней чего вы хотите? – Лиза отошла от окна уселась в кресло напротив Красавченко Шок прошел. Мозги прочистились. «А вообще, – подумала она, – для реального шантажа слишком глупо и дешево. И весь он со своими ухаживаниями, намеками глубокомысленными замечаниями какой-то ненатуральный, пластмассовый, как штампованная китайская игрушка. Однако почему-то он ведь привязался ко мне. Хотелось бы знать почему. Надо спокойно дождаться, когда он наконец сам выскажет свои требования. Надо дать ему возможность сделать хоть один серьезный ход. Это может быть опасно, но иных вариантов нет. Пока я просто ничего не понимаю».
– Я вас внимательно слушаю, Анатолий Григорьевич.
– Я уже сказал, мне надо поговорить с вами. Мне надо, чтобы вы соизволили обратить на меня внимание, чтобы вы услышали меня.
– Ну вот, говорите. Я вся внимание.
– В наше время людям все тяжелее докричаться друг до друга, никто не хочет слушать ближнего, только самого себя. – Он вздохнул и выразительно закатил глаза.
«Похоже, он просто тянет время, валяет дурака, – вдруг догадалась Лиза, – как будто ждет чего-то. Иных вариантов я не вижу. Можно, конечно, попытаться еще раз его выставить, но это не так просто. Возможно, сейчас он уйдет, но завтра все начнется сначала… О, Господи, да что же мне так худо? Может, давление? Или магнитные бури?»
– Ну, вы прямо экзистенциальный философ, – она слабо усмехнулась, – заслушаться можно, так все глубоко и содержательно.
– Перестаньте! – впервые он повысил голос и густо покраснел. – Бросьте этот ваш идиотский тон! Всему есть предел!
– – Для шантажиста вы слишком нервны и обидчивы, – сочувственно заметила Лиза.
Несколько секунд он молчал, она видела, как он лихорадочно работает над собой, пытается побороть раздражение.
– Анатолий Григорьевич, вам нехорошо? – спросила она тихо и серьезно, без тени иронии.
– С чего вы взяли? – Он вздрогнул, и Лиза искренне поздравила себя с первой за этот вечер маленькой победой.
– Вы краснеете, бледнеете, у вас руки дрожат.
Он тревожно взглянул на свои руки. На самом деле, не было никакой бледности и дрожи. А вот сама Лиза чувствовала себя все хуже. Ее сильно знобило. Впрочем, ее всегда знобило, когда она хотела спать.
Спокойно глядя ему в глаза, она произнесла усталым, безразличным голосом:
– А знаете, Анатолий Григорьевич, продавайте вы эти несчастные снимки куда хотите. Мне безразлично. Более того, я могу в прямом эфире рассказать смешную историю о том, как гуляла по Монреалю, забрела случайно в квартал публичных домов и порнозаведений. Меня обступили, стали наперебой предлагать дешевые услуги. Вот ведь кошмар! Но такое могло случиться с кем угодно и где угодно. В Париже есть Плас-Пигаль, в Нью-Йорке Сорок седьмая улица, и там тоже хватают за руки, демонстрируют товар. Я поспешила уйти, и очень обрадовалась, встретив соотечественника, любезного дипломата господина Красавченко. Он, как истинный джентльмен, вывел меня из порно-джунглей, успокоил, угостил фруктовым салатом. Но оказывается, прежде чем спасти меня от приставучих проституток мужского пола, он решил запечатлеть для истории уникальные кадры. То ли мое испуганное лицо показалось ему необыкновенно выразительным, то ли заинтересовали окружившие меня колоритные фигуры, в общем, в немолодом дипломате проснулся юный репортерский азарт. Но азарт – вещь опасная. Стоит только поддаться ему, и не замечаешь, как теряется чувство реальности.
– Возможно, – кивнул он, – я допускаю, что снимки не так уж страшны для вас. Но согласитесь, приятного мало. А если учесть всякие тайные сложности в вашей личной жизни… Нет, Лиза, я вовсе не теряю чувство реальности. Ведь вы испугались, вы занервничали, стало быть, не так уж и глупо я все придумал.