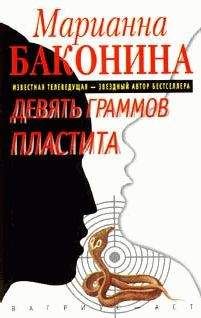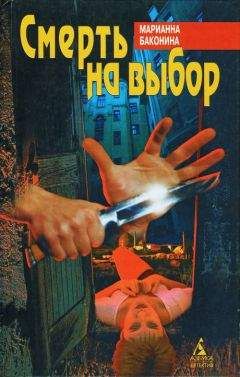А корреспонденты, наоборот, тянут, носятся где-то до самого вечера, снимают, притаскивают предмонтажные кассеты в самый последний момент. Вот и сейчас режиссер беспокоится. Первым номером в верстке стоит репортаж Маневича, а тот все еще на съемках.
– Маневичу под убийство сколько оставлять? Как написано – минуту сорок?
Лизавета заглянула в свой экземпляр верстки. Прикинула время: за минуту сорок об убийстве журналиста Айдарова Саша ни за что не расскажет
– Оставьте две с половиной.
– А перебор? – тут же поинтересовался режиссер.
Перебор – это кошмар всех, кто работает в живом эфире. После него пишут служебные записки и лишают премии. Кошмар не естественный, а искусственный. Созданный глупым распоряжением студийного руководства. Даже в строгие коммунистические времена, когда каждое подготовленное слово дважды проверялось и перепроверялось, когда первая репетиция программы «Время» или «Ленинград» проводилась в четыре часа дня, а вторая шла в шесть, «технологическая минута» – своего рода страховочное время – считалась вполне допустимой. В том числе в программах, где часы были собственным элементом передачи.
Работавшие в знаменитых «Секундах» знали, что счетчик, заведенный на экран над плечом ведущего, при необходимости, пока идет сюжет, можно отмотать, чтобы прощальная улыбка появилась вместе с нулями. И это не жульничество. Просто все посчитать невозможно, люди не автоматы, ведущий может кашлянуть или замешкаться, точно так же кашлянуть или замешкаться может любой другой человек в телевизионной цепочке. И все это драгоценные секунды.
Но теперь для удобства рекламодателей, которые хотят увидеть свой ролик в точно обозначенное время, «технологическую минуту» убрали. И над сотрудниками повис дамоклов меч перебора времени.
Лизавета еще раз просмотрела верстку:
– У меня про «Тутти-Фрутти» на сорок секунд меньше. И на комментариях сэкономим.
– Как же, ты сэкономишь! – скептически хмыкнул режиссер, но все же согласился. – Ладно, Маневичу две с половиной. Убийство все-таки.
Пока Лизавета беседовала с режиссером, два других телефона продолжали звонить. Настойчивый народ, упорный. Дозваниваются так дозваниваются. Хорошо, послушаем, кто там терзает местный телефон.
Оказалось – Лана Верейская. Начала она с привычного:
– Ты где ходишь, пока я, как кочегар, уголь в топку бросаю? Почернела вся! – Это был ее любимый зачин.
– Вы же сами знаете, Светлана Владимировна. Я разбиралась с Борюсиком насчет медицинских репортажей.
– И как? – оживилась Лана.
– Все идет.
– Вот и хорошо, верстку переписывать не надо. Я почему звоню, тут тебя по вертушке достают из департамента по здравоохранению. Хочет поговорить их начальник. Этот… – У Верейской была плохая память на имена чиновников. Артистов, писателей, ученых она запоминала превосходно, а тут – ступор, барьер. – Ковалев? Коваль? Что-то кузнецкое, но с хохляцким акцентом… Что? Опять он? – Лизавета поняла, что Лана отвлеклась от телефона и разговаривает с кем-то, находящимся поблизости. – Не с хохляцким, а с венгерским. Ковач, вот кто! – Эти слова снова адресовались Лизавете. – Ты подойдешь? Он ждет на телефоне. Его секретарши с референтами, видимо, решили, что сегодня я у них работаю диспетчером. Каждые пятнадцать минут сообщали о местонахождении своего начальника: «Ковач едет в департамент… Ковач уже подъезжает… Ковач идет по коридору…» Можно подумать, я народный контроль, проверяющий у них трудовую дисциплину. Ты чего молчишь? Поднимешься?
– Пусть лучше девочки дадут мой городской, внизу. У меня запарка. Я еще даже агентства не смотрела. А лучше всего, если он вообще не позвонит.
– Дать ему, что ли, неправильный номер? – предложила Лана, но тут же отказалась от этой затеи. – Нет, милая. Тогда они опять меня в оборот возьмут: «Ковач набрал первую цифру, Ковач не туда попал, Ковач набирает номер повторно». Сами с Саввой заварили эту медицинскую кашу, сами и пенку снимайте. Кстати, тебя еще журналисты достают, хотят узнать про взорванную машину. Девочки говорят, ты уже все сказала и больше не даешь интервью.
– Правильно! Все, я пишу комментарии. – Лизавета отключилась и тут же сняла третью трубку.
– Наконец-то! Я уж думал, вы все вымерли, как динозавры, – прокричал Саша Маневич, не дождавшись даже «алло». – Лизавета есть поблизости?
– Не только есть, но и внимательно тебя слушает. И готова передать, что тебя с нетерпением ждут монтажер и режиссер, потому как для того, чтобы смонтировать двухминутный сюжет, требуются определенные усилия. – Лизавета сознательно убавила выделенное Маневичу время, чтобы в процессе торгов поднять ставку и остановиться на двух минутах тридцати секундах. Она оказалась права.
– О, хорошо, что ты здесь. Мне нужно минимум три минуты. Тут такое дело…
– В верстке у тебя минута сорок!
– Скажи Верейской, что она сошла с ума! Минута сорок – это для репортажа с кошачьей выставки. – Маневич орал как резаный, и Лизавета отодвинула трубку от уха.
– На кошек мы даем минуту.
– И спорить не буду. Ты сама, как узнаешь, в чем дело, закричишь, что четыре минуты – и ни секундой меньше!
– А что, действительно рухнул Медный всадник? – спросила Лизавета любителя сенсаций.
В последнее время в желтой прессе стало модным писать о предстоящем апокалипсисе местного, петербургского значения: мол, совсем дряхлые коммуникации, проложенные под творением Фальконе, вот-вот не выдержат, и бронзовый основатель города провалится в тартарары вместе с лошадью и змеей.
– Не трогай истукана! Я проверял, нет под ним никаких канализационных труб. А водопровод – пустяки, в крайнем случае, построят фонтан. Тут другой детектив. Настоящий. Я снял место, где убили Айдарова. И покалякал с операми. Но я сейчас тебе не из Центрального звоню, а из РУБОПа. Дело в том, что у них порезали оперативника.
– Я знаю. – Лизавета даже удивилась, что Маневич берет ее на понт, ведь она сама рассказала ему обо всем еще утром, когда отправляла на сюжет об убийстве.
– Не перебивай меня. Я знаю, что ты знаешь. Но ты не знаешь еще многого, поэтому слушай первой. Айдаров делал материал про следствие по делу «Тутти-Фрутти», и они его взяли на мероприятие, на допрос свидетеля. Как раз этот порезанный опер с ним и ездил, причем ездили они к мадам Арциевой. А на следующий день такое вот совпадение – на обоих набрасываются с ножом. Мадам, естественно, не в курсе. Она вообще дамочка несведущая.
– Ты хочешь сказать, что это она их почикала. Обоих?
– Нет, на Кадмиева, так зовут опера, напал парень в кепке и с усиками. Похож на лицо кавказской национальности.
Лизавета, у которой от этого привычного теперь словосочетания волосы на загривке вставали дыбом, как у кошки, повстречавшейся с диким кабаном, не выдержала:
– Нет такой национальности!
– Я сам знаю, что нет, – охотно согласился Маневич, – но так понятнее. Ты меня не сбивай. Значит, кавказец.
– И какое отношение к Арциевой имеет этот кавказец?
– Я же тебе говорил, кто ее общепризнанный хахаль.
– По-моему, нет. В любом случае я не запомнила. И вообще, какое отношение ко всему этому имеет ее хахаль?
– Очень может быть, что прямое. Потому как хахаль – не кто иной, как Леча Абдуллаевич Дагаев, известный юрист и депутат нашего Законодательного собрания, видный и уважаемый политический деятель.
– Как ты сказал? – Лизавета моментально вспомнила имя одного из убитых в лондонском ресторане. Того звали Лема. Но тоже Дагаев и тоже Абдуллаевич.
– Вот, я же говорил. – Чуткое ухо Маневича уловило волнение в голосе Лизаветы. – И это еще не все… Сам по себе Дагаев никаких подозрений не вызывает. И то, что он спит с владелицей булочной, никоим образом его не компрометирует. Тем более что Дагаев не женат. В остальном репутация у него безупречная: юрист-международник, преподавал у нас в университете, дел о взятках за ним не водится, с бандитами особо не связан. В общем, образец демократического политика. Приятное исключение из правил. Но! Вот тут начинается самое интересное. У него есть… точнее, был…
Лизавета уже знала, кто «был» у уважаемого политика. Брат у него был. По имени Лема. У нее похолодело в животе от дурного предчувствия. Она вспомнила дикий страх, заставивший ее сбежать из «Астории». Сейчас она сидела в строго охраняемой эфирной студии. Помимо постов непосредственно у главного входа на улицу Чапыгина, на воротах и у выезда на улицу Попова, их студию оберегали еще отдельно выделенные милиционеры. И для того чтобы пройти в студию «Новостей», было недостаточно общетелевизионного постоянного или разового пропуска. Охрана требовала бирку, удостоверяющую, что ты сотрудник именно «Новостей», или же личное разрешение главного редактора. Чужой, даже оказавшись на телевидении, в их студию не пройдет. Лизавета сидела под тройной охраной. И все равно холодный липкий ужас колотился в висках и в груди. Стыдно. Хорошо, что Маневич ее сейчас не видит.