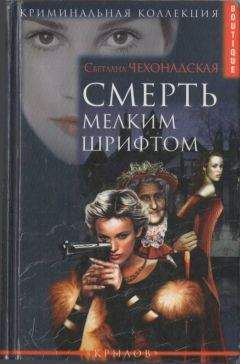— Держите. — Он протянул Инне подписанный пропуск. Инна встала, пошла к дверям. Уже на пороге кокетливо помахала пропуском.
«Повыше летаю! Ладно, пусть старый следователь разбирается», — сердито подумал Онищенко.
— Так что же вы приехали выяснить? — спросила старуха. День угасал. Над столом зажгли абажур, часы пробили семь. Пока старуха готовила чай, Ивакин позвонил сыну: возвращаться отсюда без машины было бы затруднительно.
— Ираида Федоровна, скажите…
— Лучше Ирина Федоровна. Вот тоже: когда-то считалось красиво — Ираида. Теперь звучит странно. Ираида — значит «гневная»…
— Насколько я понял, Марина здесь нечасто появлялась?
— Обычно-то? Годами не появлялась. Брат несколько раз приезжал. Дом протопил, деревья от жуков эмульсией обработал. Но от этого никакого толку. Ели-то старые!
Старуха шумно хлебнула чаю. Он был таким горячим, что у нее на глазах выступили слезы.
— Но Марина была здесь недавно, — сказала она.
— Когда?
— Это можно выяснить. У меня в тот день сидел племянник, о котором я вам рассказывала.
— Племянник подруги?
Хозяйка кивнула.
— Выясните, — попросил Ивакин.
Старуха тяжело поднялась и пошла к телефону. Гость тоже встал: за окном веранды темной неподвижной стеной поднимался ельник. Ивакин с некоторой печалью подумал об известном человеке, том самом, о котором он вообще думал часто после того, как тот заставил Владимира Александровича по-новому взглянуть на его же собственные стены. В принципе этот известный человек ему тоже не нравился. Ивакин не был суеверным, но в плохие места верил. «Это сколько же должно народа вымереть?» — с сомнением подумал он. У известного человека наследники имелись, и не один.
— Выяснила, — проговорила наконец старуха. Опираясь на палку, она вернулась к столу. — Это было двенадцатого июня.
— Во как! — немного озадаченно сказал Ивакин. Двенадцатое июня было ничем не примечательным днем, но на следующий день, тринадцатого, Марина поругалась с Лапчинской в коридоре возле бухгалтерии.
— Долго она здесь была? — спросил Ивакин.
— Нет. Я видела, как она зашла в дом, это было днем… — старуха задумалась. — А вечером окна не горели. Я поняла, что она уже уехала.
— Так.
— Потом она приехала еще раз. Буквально дня через два, — проговорила старуха.
— А поточнее?
— Поточнее не получится. Мои дни похожи один на другой. Помню только, что удивилась: чего это она зачастила?
— И снова быстро уехала?
— Нет. Она ночевала здесь. На этот раз, наоборот, я не заметила, как она приехала: только вечером, по горящим окнам, определила, что в доме кто-то есть. Даже испугалась немного и позвонила. Трубку взяла Марина, и я успокоилась. Подумала: чем черт не шутит, может, начнет ездить сюда. Летом в поселке хорошо… А утром я видела, как она уходила… Нет, она не любила поселок, — сказала старуха самой себе. — Ее отец умер в этом доме. Они боялись, что он застрелится, когда начались неприятности, связанные с аварией… Вы понимаете, наверное, о чем я?
Ивакин кивнул: он знал, в каком министерстве работал Маринин отец.
— Я их страхи понимаю — самоубийство заразно. Вначале мой генерал, потом архитектор. Человек, у которого проблемы, начинает думать: а что, это выход!.. Может быть, он и застрелился бы, — предположила старуха. — Гордый был! Но не успел, сам умер. Хорошая смерть. — В голосе ее послышалась зависть.
— Вы ей звонили… То есть вы знаете ее телефон?
— Естественно. У меня и ключ от ее дома есть. Как раз для Миши.
— Если он приезжал, он открывал дом этим ключом?
— Да. Ключом, который хранится у меня… — Старуха посмотрела на Ивакина своим фирменным взглядом исподлобья. — Ну, спрашивайте свое главное, — ехидно произнесла она.
Ивакин задумчиво смотрел на нее. Вопрос, который он собирался задать, уже не очень был ему интересен. Владимир Александрович снова почувствовал усталость от этого дела.
— Я без вопроса отвечу! — сказала старуха.
Собственная проницательность, видимо, продолжала доставлять ей удовольствие. «А говоришь: не любишь жизнь», — грустно подумал Ивакин.
— Миша приезжал сюда, брал этот ключ. — Старуха наклонилась к чашке и брезгливо отпрянула: чай остыл. — Это было недели через две после второго приезда Марины. Он приехал довольно рано, еще до перерыва в электричках. Когда брал ключ, сказал, что Марина попросила его кое-что сделать. Вроде, забрать что-то. Я пригласила его на чай, но он ответил, что торопится. На самолет опаздывает.
— И что было дальше?
— Дальше… А что дальше! Он вернулся, это было около двух, и отдал ключ.
В абсолютной тишине поселка послышался шум машины, в окне кухни, выходившем на улицу, заплясали огни фар.
— Ваш сын приехал… — старуха безучастно смотрела в окно. — Когда Миша возвращал ключ, я обратила внимание, что его ботинки в глине.
Машина остановилась за штакетником. Ивакин увидел, как сын вышел и стал топтаться, оглядываясь. Старуха подошла к кухонному окну, открыла его и крикнула: «Эй! Ваш отец здесь!» Сын удивленно смотрел в их сторону.
— Ботинки в глине, — произнес Ивакин, не двигаясь с места. — Июнь был засушливым… На улице асфальт, в ельнике трава…
— Да… — старуха улыбнулась — На дворе трава, на траве дрова.
— Значит, овраг?
— Думаю, да.
Ивакин кивнул, осторожно пожал ее руку и пошел к воротам, к машине, где сидел его Алешка. Тот, увидев отца, открыл дверь, но Ивакин протестующе помахал рукой и крикнул: «Фонарик есть?» — «Есть», — ответил сын и ни о чем не спрашивая направился к багажнику.
Калитка была не заперта. Только намотанная в несколько рядов проволока держала ее в закрытом положении. Ивакин покопался немного и через полминуты был в саду.
Участок перед домом довольно хорошо освещался с дороги, полосатые тени от штакетника ползли по траве, поваленным стволам, тянулись к окнам. Из чистого любопытства Ивакин заглянул внутрь, прижавшись лбом к стеклу: здесь, видимо, находился кабинет архитектора. Вся стена была завешана чертежами в рамках. Старые книжные полки закрывали освещенную часть комнаты от пола до потолка. Все остальное тонуло в темноте. Ивакин пошел дальше.
Сразу за домом, там, куда не доходил свет уличного фонаря, было совсем темно и тихо. Несколько раз он споткнулся, хотя и светил себе под ноги. Видимо, некоторые упавшие стволы почти полностью сгнили, а то, что осталось, было скользким и вязким одновременно. Луч фонаря уперся в ржавое днище ванны. Ивакину показалось, будто он видит давно затонувшую подводную лодку. Он обошел эту лодку справа и нагнулся.
Пока ехали по бетонке, молчали. Дорога была узкой, темной и, даже в темноте было видно, живописной — Ивакин любил эту дальнюю кольцевую. Здесь город уже не чувствовался. Только начиная отсюда можно было по-настоящему оценить красоту Подмосковья, его ельников, лугов и холмов. Все, что находилось ближе, было отравлено городом.
Дорога в свете фар зазмеилась и распалась на несколько рукавов — близилось Новорижское шоссе. Посветлело, зашелестели машины впереди. Ивакин закрыл окно.
— Дождь, что ли, прошел? — спросил он сына. Тот осторожно глянул на него: до этой минуты отец молчал, значит, не хотел разговаривать. Сын у Ивакина был интровертом и чутким парнем — полной противоположностью дочери.
— Так, брызнул чуть-чуть, — сказал сын.
— Все равно хорошо. — Это уже было прямое указание на окончание паузы.
— Красивый поселок, — произнес сын. — Люблю такие. Как в «Тимуре и его команде». А что за старуха в окне?
— Когда-то была домработницей в семье генерала милиции. Потом генерал застрелился, это еще при Сталине, потом его сына посадили за взятку, а она подсуетилась: сына выписала, за его брата-гомосексуалиста замуж вышла. Теперь она владелица восьмидесяти соток в этом поселке.
— Шустрая тетка. А зачем ты к ней ездил?
— Дачу себе присматриваю, — пошутил Ивакин.
— Неплохо бы.
— Да ладно! Наша дача тоже ничего.
— Шумная. Самолеты достали. А здесь тихо… И все-таки, зачем ты сюда ездил? Это по делу убитой журналистки? Знаешь, Прохоров приходил, жаловался.
— Жаловался?
— Он принес диктофон. Я послушал — мне Ленка дала. Ты молодец. Нам очень понравилось.
— Ты сказал, жаловался.
— Ну, он считает, ты неправ. Эта история со статьей…
— История со статьей… — задумчиво протянул Ивакин. — Набери-ка его.
Кружевной лес закончился, машина выехала на шоссе, похожее на асфальтовое поле. Теперь даже не верилось, что где-то рядом находится этот заколдованный поселок.
— Ну? — недовольно сказал прохоровский голос в трубке. — Чего молчите? Делать нечего?