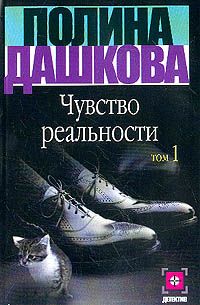Анонима отключили. Лицо Рязанцева моментально исчезло из кадра. Появилась заставка, заиграла идиллическая музыка, которая предшествовала рекламному блоку, и щекастая домохозяйка с жарким придыханием призналась в тайной страсти к жидкости для дезинфекции унитазов.
Рязанцева больше не показали, никаких комментариев не последовало. Рекламный блок затянулся минут на двадцать.
* * *
Дежурную сестру разбудил сигнал тревоги, такой резкий, что она подпрыгнула на стуле, стукнулась коленкой о край стола и несколько секунд терла глаза, тупо глядела на пульт, пытаясь понять, в какую из палат надо бежать.
Было одиннадцать вечера, самое спокойное время. В десять больным давали успокоительные и снотворные препараты, и до пяти утра они Обычно спали. Продрав глаза, сестра обнаружила, что сигнал идет из тридцать четвертой палаты. Это была лучшая палата в маленькой частной клинике. Сутки пребывания стоили двести пятьдесят долларов. Медлить нельзя было ни минуты, и сестра помчалась по коридору.
Еще не добежав, она услышала отчаянный женский визг и очень удивилась. Не могла больная, получившая два часа назад положенную дозу галоперидола, так вопить. Сестра подумала: не позвать ли санитаров?
Больная, Галина Дмитриевна Рязанцева, страдала тяжелой формой инволюционного психоза, проявляла склонность к членовредительству и суициду. Сестре вовсе не хотелось оказаться наедине с какой-нибудь дрянью, которую могла проделать у нее на глазах свихнувшаяся супруга знаменитого политика. Например, на прошлой неделе Галина Дмитриевна умудрилась рассечь себе кожу на лбу, стукаясь головой о край раковины, и агрессивно протестовала, когда ей обрабатывали рану.
Между тем крик за дверью сменился нежной музыкой, и стало ясно, что в палате просто работает телевизор. Сестра решительно вошла, чтобы прекратить это безобразие.
Больная сидела на койке, поджав ноги и с ужасом глядя на экран. Там как раз взорвался автомобиль, и в черно-красном дыму парили фигурки людей, подхваченные взрывной волной. Приятный мужской голос заманчиво рассказывал о новом приключенческом сериале.
— Галина Дмитриевна, почему вы не спите? — ласково спросила сестра и выключила телевизор.
Больная вскрикнула и завозилась с одеялом, натягивая его до подбородка.
— Наконец-то! — прошептала она с трагическим надрывом. — Я так ждала вас! Пожалуйста, принесите мне пистолет.
— Галина Дмитриевна, ложитесь. Вам надо спать. Доктор запретил вам включать телевизор после девяти вечера, — сестра попыталась уложить больную, но та забилась в угол, скорчилась, обхватив колени, и сильно дрожала.
— Не прикасайтесь ко мне, это опасно! Просто принесите заряженный пистолет и покажите, на что там нужно нажимать. Остальное я сделаю сама. Это единственный выход для всех.
— Хорошо-хорошо, только сначала вы успокойтесь и лягте.
Сестра знала, что говорить бесполезно. Слов больная не слышит и смысла их не понимает. Если механизм обострения запущен, его можно остановить только большой дозой успокоительных препаратов. Вероятно, на Галину Дмитриевну подействовал какой-нибудь кровавый ночной боевик.
— Что же вы стоите? У вас нет оружия? Попросите у охраны! Надо покончить с этим, так больше невозможно, — заявила Рязанцева, глядя на сестру красными огромными глазами.
— Завтра утром придет доктор, вы с ним поговорите, — ласково улыбнулась сестра, — утро вечера мудреней, правда ведь? Давайте-ка мы сейчас выпрямим ножки, расслабимся, ляжем и будем спать. Я с вами посижу, если вам страшно.
— Мне ничего уже не страшно. Со мной все кончено, — Галина Дмитриевна всхлипнула, глаза ее наполнились слезами, — но вы должны меня выслушать. Пока я жива, будут страдать другие. Пистолет самая надежная вещь. Таблетки и уколы могут не подействовать. Но я должна знать, что с Женей, где он! Я должна увидеть его!
— С вашим мужем все в порядке, — механическим голосом ответила сестра, отперла шкафчик с лекарствами, — а вам надо спать.
— Я заслуживаю смерти и давно мертва, потому что я убийца, а убийца не должен жить. Я страшно, чудовищно виновата. Но почему страдают другие? Это очень больно, когда из-за тебя кто-то страдает… — Больная сползла на пол, с тяжелым костяным стуком упала на колени, повторяя:
— Я не хочу жить, не надо меня жалеть.
В коробке осталась последняя ампула аминазина. Сестра хотела надломить ее, но как раз в этот момент больная стремительно подползла к ней и схватила за ноги. Ампула выскользнула из рук.
— Ведь все так просто. Достаточно избавиться от меня, и больше никто не пострадает, — Галина Дмитриевна крепко обхватила сестру и чуть не повалила ее, — поймите наконец, я приношу несчастье, только что в прямом эфире мне об этом напомнили еще раз, и больше нельзя тянуть!
От напряжения у нее разошлись края раны на лбу, и сквозь марлевую повязку просочилась кровь. Сестра с тоской подумала, что ей придется еще долго возиться с женой политика, и вряд ли она сумеет урвать хотя бы пару часов сна до утра.
— Успокойтесь, пожалуйста, — сестра наклонилась и попыталась разжать ее руки, — ничего страшного не происходит, все будет хорошо.
— Не надо меня утешать и жалеть! — закричала Галина Дмитриевна. — На мне смертный грех, и жалости я не достойна!
Во время приступов она становилась невероятно сильной. Сестре с трудом удалось вырваться и дотянуться до пульта. Она сумела нажать сразу все кнопки вызова, и через минуту в палату вбежал дежурный врач, санитары, Галину Дмитриевну скрутили, укололи, уложили, сняли повязку, обработали рану на лбу. Сестре было велено оставаться рядом. Засыпая, больная продолжала бредить, а когда затихла, стал слышен слабый нежный звон. Сестра осмотрела палату и обнаружила под кроватью мобильный телефон, спрятанный в тапочке.
— Да, — выдохнула сестра в трубку.
— Ты все еще живешь? Ты слишком долго живешь. Подумай о своем муже, о детях. Им придется расплачиваться, очень скоро и очень страшно.
"Кто это?" — хотела спросить сестра, но вовремя сдержалась и решила просто послушать, что еще скажут. Однако на том конце провода почувствовали неладное и положили трубку.
Позже, рассказывая о случившемся дежурному врачу, она так и не сумела ответить, кому принадлежал голос, мужчине или женщине. Он был какой-то бесполый, для мужчины слишком высокий, для женщины слишком низкий.
— Вот и все, — повторял про себя Григорьев, вышагивая по пустынной, ярко освещенной 16-й улице, от здания посольства к Каролин-стрит, к стоянке такси, — теперь тебе ясно, что ты никто? Даже это решение ты не можешь принять самостоятельно. Кумарин все решил за тебя. Теперь очередь Макмерфи. Будет потеха, если твой друг Билли откажется тебя принять! Ты скажешь: "Билли, спаси меня! Я провалился. Я должен лететь в Москву, я знаю точно, что меня там арестуют, а потом расстреляют". А он рассмеется тебе в лицо, похлопает по плечу и ответит:
"Брось, Эндрю, ты, как всегда, преувеличиваешь, у тебя очередной приступ паранойи".
На прощанье Кумарин посоветовал оставить машину в посольском гараже, прогуляться до стоянки такси на Каролин-стрит. Это было разумно, поскольку Григорьев выпил водки.
Андрей Евгеньевич редко ходил пешком по центру Вашингтона. Он не любил этот город. Прямые пронумерованные стрит с юга на север, и строго перпендикулярные, с запада на восток, авеню, разбивали административное сердце Америки на идеально ровные квадраты и прямоугольники. Летом невыносимый влажный зной, зимой промозглые ветра с реки Потомак. Конные памятники генералам на перекрестках, мокрые и блестящие под косым дождем, подсвеченные ночными огнями, почему-то напоминали голливудские ужастики и навевали мысли об оживших мертвецах.
На углу 16-й и Каролин к нему привязался черный нищий в ярко-желтой нейлоновой куртке. Обдавая нестерпимой вонью, он гремел мелочью в жестянке, тряс войлочными косичками, вытравленными до желтизны, под цвет куртки. Белые оскаленные зубы сверкали на черном, как вакса, лице.
— Пожалуйста, сэр, всего несколько центов! Ну что вам стоит? — Он бегал вокруг Григорьева, хватал за рукав, заглядывал в глаза. На куртке была эмблема совместного советско-американского космического полета "Союз-Аполлон", пересечение двух флажков — звездно-полосатого и красного, с серпом и молотом.
Григорьев полез в карман, брезгливо отворачиваясь, бросил в кружку монету в двадцать пять центов. Но нищий все пританцовывал рядом, бормотал, напевал, вонял, путался под ногами и на просьбы отвязаться не реагировал. Вдруг Григорьев расслышал нечто знакомое: "Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой…"
Черный нищий точно выводил мелодию, и русские слова звучали почти чисто, без акцента. А вдоль кромки тротуара медленно ехала полицейская машина.